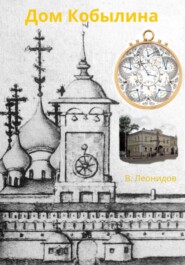
Полная версия:
Дом Кобылина
Апелляция Софьи к оставшимся в Москве стрельцам, призыв встать на защиту своего главного стрелецкого начальника успеха не имели. Правительнице пришлось выдать фаворита Федьку Шакловитого, и он был 7 сентября доставлен в монастырь, подвергнут допросу и пыткам и через пять дней казнен вместе с главными сообщниками. Петр по достоинству оценил верных ему стрельцов, с самого начала обеспечив их защитой, как свидетелей заговора, от разыскиваемых ещё собратьев, могущих мстить. Тогда, Наталья Кирилловна говорила сыну:
– Петенька, свет мой, прости этих стрельцов, теперь они за тебя живота своего не пожалеют. Прими их в своё расположение.
– Воля твоя, матушка, – шея Петра напряглась, глаза расширились, голова склонилась на бок, – думаю эти теперь не подведут, верны будут. Свежие силы сейчас ох как нужны. Сейчас нужно мушкетов ещё и огненного заряда к ним…
– Головка стала опять у тебя дёргаться, Петруша? – спросила Наталья Кирилловна сына. – Отдохнул бы ты теперь, будет всё воевать…
– Сейчас некогда, маманя, надо действовать, – Петр, слегка отодвинулся от царицы и посмотрел на неё большими круглыми глазами, – мы верных стрельцов приблизим и есть у меня мысли, как сделать, чтобы верны были по гроб жизни…
Уже тогда создался прецедент, наверное первой на Руси программы защиты свидетелей. Пётр (опасаясь за жизнь стрельца, вернувшего потерянное кольцо царице) не сразу отменил розыск Фёдора Кобылина, оказавшего неоценимые теперь услуги и давшего наиболее точную информацию. При этом розыск бежавших в неизвестном направлении Григория Силина и Петра Секетова продолжался.
ГЛАВА 6 Непредвиденная задержка Великого посольства
Великое посольство, которое вот-вот готовилось отправиться в Европу могло и не состояться. Вечером, перед отъездом из Москвы, друг Петра генерал Патрик Гордон дал торжественный обед в честь посольства, но царь, очень любивший веселые празднества, почему-то не явился. И уже ближе к рассвету, раскрылся заговор – полковник Иоганн Цыклер из обрусевших иноземцев, считавший себя большим русским, чем сами русские, решил постоять за старые обычаи Руси и убить царя-реформатора.
Цыклер ранее входил в ближнее окружение царевны Софьи, но был прощен Петром I после неудачного стрелецкого мятежа 1689 года. Несмотря на такую милость, полковник организовал заговор, в котором участвовали двое придворных в высоких чинах стольника и окольничего, а также стрельцы из Стремянного полка – охраны Кремля. Они собирались ночью поджечь дом, зная, что Петр всегда участвует в тушении пожаров, и, воспользовавшись тем, что с царем будут только стремянные стрельцы, зарезать его. К счастью, один из пятидесятников Стремянного полка, посвященный в заговор, оказался на стороне Петра и вовремя предупредил его.
Лев Кириллович Нарышкин тем временем прислал в Преображенское пятидесятника стременного полка Конищева Лариона Елизарьева, который известил о разговоре своем с Цыклером. Цыклер: – Смирно ли у вас в полках? Елизарьев: – Смирно. Цыклер: – Ныне великий государь идет за море, и как над ним что сделается, кто у нас государь будет? Елизарьев: – У нас есть государь царевич. Цыклер: – В то время кого бог изберет, а тщится и государыня, что в Девичьем монастыре. – Елизарьев сослался на другого пятидесятника своего полка, Григория Силина, который показал: «Цыклер сказал ему про государя, что можно его изрезать ножей в пять; известно государю, прибавил Цыклер, что у него, Ивана, жена и дочь хороши, и хотел государь к нему быть и над женою его и над дочерью учинить блудное дело, и в то число, он, Иван, над ним, государем, знает, что сделать». Цыклер в расспросе и на очной ставке заперся; на пытке указал на Соковнина: «Был я в доме у Алешки Соковнина для лошадиной покупки, и он, Алешка, меня спрашивал: каково стрельцам? Я сказал, что у них не слыхать ничего. Алешка к моим словам молвил: где они, ч..... дети, передевались? знать, спят! где они пропали? можно им государя убить, потому что ездит он один, и на пожаре бывает малолюдством, и около посольского двора ездит одиночеством. Что они спят, по се число ничего не учинят? Я сказал: в них малолюдство, и чаю, что опасаются потешных. Алешка отвечал: чаю в стрельцах рассуждение о царевиче – для того они того учинить и не хотят. Я сказал: и я в них то ж рассуждение чаю; сам ты об себе рассуди, что и тебе самому каково, сказываешь, тошно, что с детьми своими разлучаешься. И Алешка сказал: не один я о том сокрушаюсь. После того в два мои приезда Алешка говорил мне про государево убийство и про стрельцов; ведь они даром погибают и впредь им погибнуть же. Я ему, Алешке, говорил: если то учинится, кому быть на царстве? Он сказал: Шеин у нас безроден, один у него сын и человек он добрый. Я ему сказал: счастье Борису Петровичу Шереметеву, стрельцы его любят; и Алешка говорил: чаю, они, стрельцы, возьмут по прежнему царевну, а царевна возьмет царевича, и как она войдет, и она возьмет князя Василья Голицына, а князь Василий по прежнему станет орать. И я ему говорил: в них, стрельцах, я того не чаю, что возьмут царевну. Алешка мне молвил: если то учинится над государем, мы и тебя на царство выберем. Я ему говорил: пеняешь ты на стрельцов, а сам того делать не хочешь, чтоб впредь роду твоему в пороке не быть. И Алексей сказал: нам в пороке никому быть не хочется, а стрельцам сделать можно, даром они пропадают же. Князь Пётр Голицын человек прыткий и шибкий, мы чаяли от него, что то все учинит над государем. Князь Борис Алексеевич сам пьян и государя пить научил». Соковнину было 10 ударов: повинился и оговорил зятя своего Фёдора Пушкина: «После Цыклерова приезда приезжал ко мне зять мой Федька Пушкин и говорил про государя: погубил он нас всех, можно его за то убить, да для того, что на отца его государев гнев, что за море их посылал». Соковнин показал также, что сын его Василий говорил ему: «Посылают нас за море учиться неведомо чему». После пяти ударов Пушкин повинился и прибавил: «Накануне Рождества Христова был я у Алексея Соковнина в доме, и Алексей мне говорил: хочет государь на святках отца моего, Федькина, ругать и убить до смерти и дом наш разорить; и я ему говорил: если так над отцом моим учинится, и я государя съехався убью». Цыклер оговорил пятидесятника Конищева полка Василья Филиппова: – Был у меня Васька Филиппов, – рассказывал Цыклер, – и я его спрашивал: приехали ныне козаки, а тебе они знакомцы, что они, благодарны ли милости государевой? И он, Васька, говорил: «ему в козаках знакомцы есть и говорил с козаком, что Дёмкою зовут, и отвечал Дёмка козак, что они не благодарны, за что им благодарным быть?»; я говорил Ваське: «дано им ныне 1000 золотых»; и Васька говорил: «то они ни во что ставят для того, что им на войско делить нечего». И я спросил: чего у них чаешь? И он, Васька, сказал: козак Дёмка говорил ему: «дай нам сроку, поворотимся мы, как государь пойдет, и учиним по-своему, полно, что и преж сего вы нам мешали, как Стенька был Разин, а ныне мешать некому», и я говорил Ваське: «будет от того разоренье великое, и крестьяне наши и люди все пристанут к ним». Васька же Филиппов говорил мне, что «…козаков прельщает турецкий султан, чаю, и письмо прислал». Цыклер признался, что говорил Филиппову: как государь поедет с посольского двора, и в то время можно вам его подстеречь и убить. И велел ему о том убийстве и стрельцам говорить. Цыклер объявил: «Научал я государя убить за то, что называл он меня бунтовщиком и собеседником Ивана Милославского и что меня он никогда в доме не посетил»; признался, что говорил: «Как буду на Дону у городового дела Таганрога, то, оставя ту службу, с донскими козаками пойду к Москве для ее разорения и буду делать то же, что и Стенька Разин». Филиппов объявил, что говорил с козаком Петром Лукьяновым, а не с Демкою, и Лукьянов ему говорил: дано 1000 золотых, чего то на войско делить? служи да не тужи, нам и по копейке не достанется; как вы, стрельцы, пойдете с Москвы на службу, и в то число наши козаки зашевелятся и учинят по-своему. И Цыклер к этому рассказу примолвил: как они, козаки, зашевелятся, и он, Иван, с ними пойдет вместе, зовет же его государь бунтовщиком. Потом козак говорил: «Козаки отпишут турецкому султану о помощи для московского разоренья, и он к ним пришлет в помощь кубанцев, так они великое разоренье учинят». Цыклер, по показанию Филиппова, говорил: «В государстве ныне многое нестроение для того, что государь едет за море и посылает послом Лефорта, и в ту посылку тощит казну многую, и иное многое нестроение есть, можно вам за то постоять». Филиппов оговаривал стрельца Тимошку Скорняка, которому при нем Федор Пушкин говорил про государя такие слова: «Что живет мол небрежением, не христиански и казну тощит».
Оговорен был также пятидесятник Рожин, которому Цыклер говорил: «Службы вашей много, можно вам себя и поберечь, а то корень ваш не помянется». Советовал бить челом боярам и своей братье на государя и убить его. Перед казнью Цыклер сказал: «В 1682 году, после побиения бояр и ближних людей стрельцами, призывала меня царевна и говорила, чтоб я стрельцам сказал, чтоб они от смущения унялись, и по тем ее словам я стрельцам говаривал». А перед крымским первым походом царевна призывала також Цыклера и говаривала почасту, чтоб он с Федькою Шакловитым над государем учинил убийство. Да и в Хорошове, в нижних хоромах, призвав его к хоромам, царевна в окно говорила ему про то ж, чтоб с Шакловитым над государем убийство учинил, а он в том ей отказал, что того делать не будет, и говорил ей, царевне: если государя не будет, и за тобою ходить никто не станет, можно тебе его, государя, любить; и царевна ему сказала: я бы его и любила, да мать не допустит; и он, Иван, ей говорил: мать рада, хотя бы и татарин его, государя, любил. И за то она на него гневалась: знать, ты передался на другую сторону. И в то время у ней в хоромах была княгиня Анна Лобанова. И за то его, Ивана, царевна послала в крымский поход; а как он из крымского похода пришел, и она ему о том же говаривала и сулила дмитровскую деревню Ивана Милославского, Кузнецово, которая была за мелетийским (имеретийским) царевичем, и он ей также отказал, и за то она его и в другой крымский поход послала; а пришед из крымского похода, о том она ему не говорила. А Иван Милославский к нему, Ивану, был добр и женат он был у него, Ивана». Цыклер напомнил о своем собеседничестве с Иваном Милославским, рассказал, как подучала его Софья на убийство: у Петра отуманилась голова; ему захотелось достать Ивана Милославского, хотя мертвого; ему захотелось угостить сестру, дочь Милославской… Великий государь указал Соковнина, Цыклера, Пушкина, стрельцов Филиппова и Рожина, козака Лукьянова казнить смертию. И на Красной площади начали строить столб каменный. И марта в 4-й день тот столб каменный доделан, и на том столбу пять рожнов железных вделаны в камень. И того числа казнены в Преображенском ведомые воры и изменники, и в то время к казни из могилы выкопан мертвый боярин Иван Михайлович Милославский и привезен в Преображенское на свиньях, и гроб его поставлен был у плах изменничьих, и как головы им секли, и кровь точила в гроб на него, Ивана Милославского. Головы изменничьи были воткнуты на рожны столба, который был построен на Красной площади.
ГЛАВА 7 Великое посольство направляется в Голландию
10 марта 1697 года, великое посольство выехало из Москвы. Лев Кириллович Нарышкин2 во время первого заграничного путешествия Петра вплоть до 1698 г. входил в особый совет, оставленный царем управлять страной, но его роль в нем была скорее почетной, реальная же власть принадлежала боярину князю Ф. Ю. Ромодановскому. Был одним из богатейших землевладельцев страны, ему принадлежал также металлургический завод в районе Тулы, в Ченцово, куда Лев Кириллович отправлял лучших работных людей. В Ченцово бывал и сам государь Пётр I во время ожидания окончания строительства первой триумфальной арки в Москве и подхода войск из победного Азовского похода. Посещал царь Пётр и Тулу 19 февраля 1700 года во время поездки в Воронеж на строительство кораблей; в этот день он менял лошадей в Ямской слободе на Московской-Ямской, где был тульский зареченский ям или почтовая станция.
Среди «валантиров» великого посольства был уже известный нам Фёдор Кобылин. К тому времени Фёдор Кобылин успел поработать на строительстве корабля на верфи в Воронеже и приобрёл некоторый опыт плотницких работ. Петр лично отбирал «валантиров» для первого зарубежного посольства и стрелец Фёдор понравился царю своими навыками в военном и плотницком деле, а также в благодарность за оказанные давеча услуги и ценную информацию; к тому же потерянное Натальей Кирилловной кольцо опять вернулось на палец «царицы-медведицы». Первые впечатления по выезде Посольства за шведский лифляндский рубеж были неблагоприятные. Ехали медленно не столько от распутицы, сколько от недостатка подвод и кормов, потому что в стране был голод. В Риге посольству сделана была почетная встреча, но губернатор Дальберг счел своею обязанностию не нарушать строгого инкогнито царя, так как русские уверяли, что весть о царском путешествии есть детское разглашение, что царь едет в Воронеж для корабельного строения. С другой стороны, желание Петра осмотреть рижские укрепления не могло не возбудить подозрительности губернатора. Отец этого самого царя стоял с войском под Ригою, а сын без устали строит корабли и вместо того, чтоб сражаться с турками, предпринимает таинственное путешествие на Запад! Но легко понять, как эта подозрительность и недопущение осмотреть город должны были раздражить Петра при его нетерпеливости все сейчас осмотреть, при его непривычке к бездействию при его непривычке встречать препятствия своим желаниям. Враждебное чувство глубоко залегло в его сердце. Тремя днями прежде посольства он переправился в лодке через Двину в Курляндию. В каком он был расположении духа при отъезде, всего лучше видно из письма его к Виниусу от 8 апреля: «Сегодня поехали отсель в Митау. Здесь мы рабским обычаем жили и сыты были только зрением. Торговые люди здесь ходят в мантелях, и кажется, что зело правдивые, а с ямщиками нашими за копейку м..... лаются и клянутся, а продают втрое». Несмотря, однако, на то, что сыт был только зрением, Петр кой-что успел смекнуть и пишет к Виниусу: «Мы ехали через город и замок, где солдаты стояли на 5 местах, которые были меньше 1000 человек, а сказывают, что все были. Город укреплен гораздо, только недоделан. Зело здесь боятся, и в город и в иные места и с караулом не пускают, и мало приятны». Вследствие этой малой приятности Рига осталась в памяти Петра как «проклятое» место. Из Коппенбрюгге Петр направился к Рейну, оставил посольство и с дюжиной верных волонтёров спустился Рейном и каналами до Амстердама. Так как посольство еще не приезжало, то в ожидании его Петр занялся по-своему: в местечке Зандам, или Заандам, известном по обширному кораблестроению, на верфи Рогге появился молодой, высокий, красивый плотник из России, Петр Михайлов, с ним 12 его лучших «валантиров»; жил он в деревянном домике на улице Кримп у бедного кузнеца Киста, посещал семейства плотников, которые находились в России, выдавал себя за их товарища, простого плотника. Валантиры были распределены на строительство корабля – фрегата. Фёдор Кобылин был послан Петром блоки делать. Фёдор начинал делать такелажные блоки под руководством кузнеца 3-й верфи Геррита Киста. Кобылин подмечал, как главный мастер делал едва заметную зарубку-отметку на брусе, а затем уже и старший смотритель подошёл к брусу:
– Теперь моя очередь, как смотрителя за работами, – сказал мастер и, сняв шапку, сделал вторую зарубку. – Геррит! – позвал он. – Теперь тебе, старшему кузнецу полагается вбить метку и сделать зарубку.
Тогда третью зарубку сделал Геррит Кист и передал эстафету своему новому подмастерью Кобылину:
– Ну ка покажи на что ты способен парень!
Фёдор перекрестился, и со словами «Господи, благослови» замахнулся и нанес сильный удар, из-за чего зарубка на брусе оказалась слишком глубокой и одна крупная щепка попала в старого Киста. Кист взял её, повертел, пробормотал «велика зарубка будет отличаться» и спрятал её в карман. Потом он посмотрел на Кобылина и сказал:
– Ну и крепок ты парень, чуть было не испортил брус, но остальные до конца бруса зарубки сделаешь в точный размер, как смотрителем и мною были деланы.
Фёдора научили, а затем и доверили нарезать на зандамской пилораме длинные бруски с пропиленной посередине продольной канавкой; размечать брусок на короткие заготовки в нужный размер; шилом намечать места для засверловки, а затем просверливать в блоках сквозные отверстия для продевания через них канатов корабельного такелажа. Далее, уже на готовые блоки он наносил фаски. Таких блоков требовалось большое количество и Фёдор вскорости хорошо набил руки на их изготовлении, да и хорошие мозоли на ладонях набил тоже.

Федор Кобылин (вверху справа) делает блок под руководством Петра Михайлова
ГЛАВА 8 Русский плотник-царь Пётр
А русский плотник-царь Пётр тем временем, в свободное от работы время (а работать он начал 19 августа), осматривал фабрики, мельницы и мастерские в Заандамском районе. Бывал у местных жителей, особенно в семьях, члены которых работали в России. Все ему нужно было видеть, обо всем узнать, как и что делается: однажды на бумажной фабрике не утерпел, взял у работника форму, зачерпнул из чана массы – и вышел отличный лист; по началу любимая забава Петра Михайлова была катание на ялике, который купил на другой же день по приезде в Зандам. Пётр Михайлов очень желал освободиться от порока водобоязни. Несмотря на необыкновенную твёрдость воли он не был ещё вполне убеждён в победе, одержанной над собою относительно врождённого отношения его к воде. Своим поведением и видом, не идущими к простому плотнику, – хотя своею красною фризовою курткою и белыми холстинными штанами он нисколько не отличался от обыкновенных работников, Петр сейчас же выдал себя: заговорили, что это не простой плотник. Четыре месяца с половиною жил Петр в Голландии: фрегат, заложенный им, был уже готов к спуску. Плотники разбирали мало-помалу колоссальные леса, служившие подпоркой огромному остову, покоившемуся кормой на брёвнах, носом же обращённому к морю, на котором вскоре он должен был начать свою бурную жизнь. Большинство строителей корабля, включая Фёдора Кобылина, решились спуститься на нём со стапеля, собравшись на палубе. Конечно и царь Пётр не хотел отстать от других в этом отношении. Кобылин заранее предупредил Петра Михайлова, что не каждый корабль сходит благополучно со штапеля и что носовую часть, быстро погружающуюся в воду, часто волны накрывают до колен, находящихся на палубе. Спуск прошёл благополучно, к пущей радости строителей, местных плотников, волонтёров и Петра. На Ост-Индской верфи, отдав себя с прочими волонтёрами в научение корабельной архитектуре, государь в краткое время обучился всему тому, что подобало доброму плотнику знать, своими трудами и мастерством новый корабль построил и на воду спустил. Потом просил той верфи мастера Яна Поля, дабы учил его препорции корабельной, который ему через четыре дня показал. Но понеже в Голландии нет на сие мастерство совершенства геометрическим образом, прочее же с долговременной практики, о чем и вышереченный мастер сказал, что всего на чертеже показать не умеет, тогда зело ему стало противно, что такой дальний путь для сего восприял, а желаемого конца не достиг.
Корабельный мастер, а сам Петр I таким мастером и был, обучаясь проектировать корабль, рассчитывал силовые нагрузки корпуса, отношение ширины к длине, обводы – то есть, те самые, как говорили тогда, «добрые пропорции», предполагаемое количество орудий, парусность судна. Попутно вычерчивались чертежи – элементы конструкции корпуса: шпангоуты, бимсы, пиллерсы, детали штевней, киля и непосредственно теоретический чертеж.
Время от времени в Зандам приходили с оказией какие-то длинные свёртки и однажды дождливым вечером Пётр поручил Фёдору Кобылину перенести несколько свёртков в сарай, ключи от которого были у сына Киста, Фрица. Дождь начал усиливаться и Пётр приказал побыстрее закончить порученную работу. Кобылин побежал за Фрицем и тот, взяв ключи пошел помогать Фёдору тащить свёртки. Вдруг, по середине дороги Фриц обнаружил отсутствие ключей, которые он заблаговременно прицепил к поясу. Вдвоём они стали лихорадочно искать ключи в длинной луже. Ключей нигде не было. Наконец Кобылин вспомнил, что ему частенько улыбалась удача находить разные предметы. Фёдор привязал свой ключ к поясу и вернулся назад; потом он снова пошёл по тому же пути и как бы случайно отцепил свой ключ от пояса. Со словами, – «чёртик, чёртик, поиграл и отдай!» Фёдор нагнулся к своему ключу и рядом с ним обнаружил в луже ключи Фрица. Как же они обрадовались тогда.
– Какой же ты, Фёдор, смышлёный и ловкий! – вскричал Фриц. – Теперь уж мы быстро и внимательно перенесём эти свёртки.
Фёдор улыбнулся своей маленькой победе и вспомнил, что со времён находки кольца Натальи Кирилловны ему частенько везло найти какую-либо потерянную вещь.
Математические расчеты корпусов с элементами стандартизации судостроения очень занимали царя Петра и принудили его отправиться из Зандама, сначала в Амстердам, а затем в Англию.
В Амстердаме Пётр пытался понять и описать голландскую технологию строительства кораблей, но местные мастера судостроения не спешили делиться с русским царём своими секретами. И опять Пётр оставил работать на верфи в Амстердаме своих волонтёров, наказав им высмотреть, заучить, а при случае и собрать сведения о всей возможной тонкости плотницкой и кузнецкой. Фёдор Кобылин, как и прежде, должен был делать корабельные блоки. Вечерами дивился Фёдор красоте Амстердама, его нарядными домами с островерхими крышами под красной черепицей. По тем временам Амстердам казался огромным, требовалось почти два часа, чтобы пройти его из конца в конец, пересекая полукружья каналов, на берегах которых высился этот город. Развернутый веером вокруг центра, ратуши и площади Дам, он был органично собран, не прекращая разрастаться. Гармоничность планировки составила, пожалуй, его самую привлекательную черту. Городские склады громоздились между перекидными сходнями и изящными арками мостов; они тянулись вплоть до самого центра богатых кварталов, их высокие здания смешались с домами купеческих старшин, выходившими и на улицу, и на канал, возле которых с юрких шлюпок, обслуживавших в порту суда, сваливали ящики, тюки, бочки и кадки. Город был окружен кирпичной стеной с почти тысячью арок, под сводами которых в невероятной тесноте ютилась беднота. Двадцать шесть ворот выходили на такое же количество улиц, которые вели в Старый город, где река Амстел разбегалась бесчисленными серебряными дорожками водных путей. Каждый час небо звенело от перезвона бесчисленных колоколов. Бой курантов стал в Голландии национальным искусством. Многие часы пользовались особой известностью, особенно куранты Старой церкви в Амстердаме, которые как-то вечером восхитили Фёдора Кобылина своим видом и мелодичным перезвоном.
Пётр, тем временем искал в Амстердаме технических новинок. Но, известно, что именно оных, особенно в судостроении и не нашел молодой российский царь будучи в Голландии, работая на верфях в Зандаме и Амстердаме. Впоследствии Пётр неоднократно возвращался в Зандам, но никогда не оставался здесь более чем на один день.
ГЛАВА 9 Зарождение флота российского при Петре I
Впервые о строительстве в Голландии судов для России стало известно из писем и документов 1693 года, когда юный Петр во время первого визита в Архангельск приказал «выдать заказ на постройку 44-пушечного фрегата и военной галеры голландскому кораблестроителю, владельцу верфи Николаю Витсену». Этот заказ имел большое значение для молодого русского флота, так как отечественное морское судостроение делало лишь первые шаги на только что созданной Соломбальской верфи в Архангельске. Об этом свидетельствует оживленная переписка Петра I с думным дьяком Андреем Виниусом. Пётр писал: «44-пушечный фрегат «Святое Пророчество» нельзя считать мощным боевым кораблем: его орудия небольшого калибра размещались только на верхней палубе, под которой размещались каюты и грузовой трюм». Как дальновидный политик Петр I прекрасно понимал, что пытаться сразу строить крупные боевые суда, не располагая достаточным количеством отечественных кадров, бессмысленно, поэтому он уделял внимание постройке небольших, маневренных судов – галер, галиотов и яхт. 32-весельная «галея» или галера (длина 38,1, ширина 9,2, высота бортов 3,8 м), которую на особых дровнях в разобранном виде доставили «вместе с мастером» в 1695 г. из Амстердама в подмосковное село Преображенское, послужила образцом для постройки под руководством Петра I и архангельского губернатора Ф. М. Апраксина 22 галер; они сыграли, как известно, решающую роль в повторной осаде Азова и составили ударную силу русского флота при взятии этой турецкой крепости 18 июля 1696 г.



