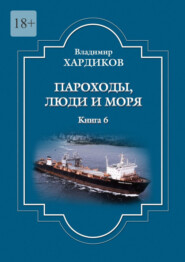
Полная версия:
Пароходы, люди и моря
В качестве силовой установки установили два двигателя брянского завода мощностью по 16 700 лошадиных сил, которые у механиков авторитетом не пользовались. Каждый из них был автономен со всеми насосами, котлами и манометрами. Три дизель-генератора по 650 лошадиных сил и один турбогенератор мощностью 1170 лошадей, работавший только на ходу от одного из двух гребных валов главных двигателей, забирая у него некоторую часть мощности. Дизель-генераторы обеспечивали электропитание и работу крана, для чего брались в параллель все три электростанции (впрочем, иногда хватало и двух). Все механики, работавшие на судах типа «Пятидесятилетие комсомола», хорошо знают главные двигатели «Русский дизель»: бесконечные пожары в подпоршневых полостях, частая замена втулок, протечки масла, из-за которых мотористы и механики смахивали на настоящих кочегаров из давно ушедших времен, словно черти из преисподней, и куча других мелких неисправностей, – это далеко не датский «Бурмейстер и Вайн» и даже не лицензионный польский «Зульцер-Цегельски», и крейсерская скорость в одиннадцать, максимум двенадцать узлов при солидном расходовании «дешевого» бункера. А на «монстре» было целых два изделия брянского завода, и каждый более чем втрое мощнее стоявших на «комсомольцах», – было над чем задуматься.
Главным механизмом на судне, как ни крути, все-таки являлся кран, и в данном случае советские идеи «чучхе» не оправдались, потому что в Стране Советов нечего подобного не производилось, ни старых, тем более современных надежных образцов, напичканных электроникой и джойстиками, и в помине не было, а вот у чухонцев – пожалуйста. Пришлось делать хорошую мину при плохой игре и покупать современный кран у своих соседей – финских буржуев, совсем недавно бывших чухонцами, да еще «убогими», как писал о них, вкупе с прибалтами, наш самый главный русский классик литературы – Пушкин. А ныне они производят сложнейшую технику, к сожалению, недоступную нашим конструкторам и передовым орденоносным заводам, при изготовлении которой одной кувалды с напильником и какой-то матери будет явно недостаточно. Пришлось заказывать кран у финской компании «КОНЕ», который они изготовили точно в контрактный срок. Кран был наполнен новинками, неизвестными в СССР, и представлял собой фантастическое существо, словно огромный робот с человеческими мозгами и такой же плавностью движений. Скорость передвижения по рельсам можно было регулировать от шестидесяти метров в минуту до нескольких сантиметров, что особенно важно при центровке и постановке многотонного лихтера в отведенное ему место. Тоже происходило и при вертикальном подъеме или опускании груза: чем тяжелее была ноша, тем осторожнее работала электроника. Управление производилось из кабины двумя джойстиками и несколькими кнопками, управляющими гидравлическими захватами лихтера. Кабина крановщика оснащалась кондиционером. Помимо всего, кран мог работать в автоматическом режиме: задав нужную программу с указанием места доставки груза и нажав кнопку, можно было читать газету «Правда» о новых успехах в построении коммунизма. Тем временем буржуйский кран подъезжал к заданному месту и останавливался, плавно снижая скорость. Оставалось нажать кнопку «спуск» и продолжать читать. При этом нога крановщика находится на педали тормоза, и при отпускании многотонная махина мгновенно останавливалась, будучи с грузом или без. В дополнение к электромагнитным имелись аварийные гидравлические захваты, охватывающие рельсы. Для захвата лихтера кран выкатывался на кормовые консоли, зависая над водой, издали напоминая склонившуюся цаплю, охотящуюся на лягушек в своем болоте. Лихтер, поджимался буксирами вплотную к корме, а затем его хватали лебедки судна с автоматическим усилением, на него опускался спредер (грузозахватное устройство). Ну а далее дело техники.
У херсонских судостроителей не было ни дока, ни стапеля, подходящего под размеры гигантского судна, превосходящего знаменитый «Титаник», посему они строили все четыре судна двумя половинами, которые собирались на берегу, спускались на воду и стыковались друг c другом с помощью специального кессона, заведенного под стык обеих половинок. После откатывания балласта кессон плотно подгонялся к корпусу и создавшийся коридор наполнял сонм высококлассных сварщиков. Проварка швов требовала ювелирной точности, чтобы не возникла даже миллиметровая кривизна, в противном случае на корме и баке, отстоящих от проваренного шва на сто тридцать метров, простым глазом станет заметна кривизна всего «ковчега», нарушатся напряжения в районе самого шва, что приведет к его неминуемой деформации с непредсказуемыми последствиями. Потому нужно было соединить два плавающих блока, каждый из которых более шести тысяч тонн весом, со множеством переборок, палуб и бимсов, составляющих сложнейшую конструкцию, c точностью до миллиметра. Лихтеровоз рассчитан на перевозку восьмидесяти двух лихтеров в семи трюмах и в два яруса на палубе, а также 1500 стандартных двадцатифутовых контейнеров, труб большого диаметра для строящихся тогда многочисленных нефте- и газопроводов. Советская страна испытывала громадную потребность в инвалюте и прилагала отчаянные усилия, дабы поскорее доставить покупателям бездонные богатства своих недр в обмен на зеленую валюту. Как оказалось, лихтеровоз пригоден для перевозки навалочных грузов, требующих особых норм остойчивости. Впоследствии именно перевозка зерна оказалась самой экономичной (не значит-рентабельной), позволившей занять «монстра» необходимой работой во время вынужденных простоев и многомесячного ожидания прибытия лихтеров, строящихся где-то далеко, да и большую часть года, ибо на Крайнем Севере десять месяцев зима – остальное лето.
«Алексей Косыгин» резко выделялся среди других судов пароходства по своей необычной архитектуре и гигантским размерам, по сравнению с ним даже пассажирский репарационный пароход «Советский Союз» со своими двухсот двумя метрами казался не таким уж большим, уступая целых шестьдесят метров. При появлении в порту он сразу становился центром притяжения: к нему тут же направлялись катера и буксиры, подтаскивая светло-коричневые коробки, формой напоминающей спичечные, но поражающие размерами; выделялся отдельный канал на ультракоротковолновой радиостанции, дабы не мешать повседневной рабочей деятельности порта. Громадный кран переезжал на самый конец кормы, и со стороны казалось – вот-вот сорвется и рухнет в лазоревую рябь портовой акватории, но он не падал, а более того, наклонял свою длинную руку, словно истинный джентльмен, и поднимал одну из привезенных коробок, не спеша перевозил ее по своим рельсам и бережно ставил в нужное место, а затем возвращался за следующей. Хищный кавказский нос, вернее форштевень, напоминал опытным морякам о его неуступчивости морским льдам, в отличие от курносых штевней с выдающимся бульбом у любителей южных направлений. Но «каждому Сеньке по своей шапке», а нашему молодцу все широты по плечу. Все-таки он являлся первым отечественным лихтеровозом. Наибольшая длина – 262 метра, ширина – 32, осадка – 12. Цифры впечатляют и говорят сами за себя.
Интересно, что для вывода построенного судна из заводской акватории, с достроечного причала, на котором пароход не умещался и метров шестьдесят с гаком кормовой части зависли в днепровских водах, вынуждая прибрежный мелкотравчатый флот огибать неожиданное препятствие и удивленными глазами всматриваться в неведомое чудовище, будто намеревающееся перегородить всю днепровскую ширь, пришлось углублять и расширять канал из-за большей осадки и длины, которые не вписывались даже в небольшие изменения направления русла реки. Пассажиры проходящих катеров еще долго оглядывались на невиданное чудо-юдо, строя предположения, что такое может скрываться за незнакомыми формами.
Поговаривали, что во время следования лихтеровоза на ходовые испытания по усовершенствованному каналу все-таки при изменении курса задели кромку канала, состоящую, на счастье, из песка с илом, и произошел ее обвал на собственно фарватер. Возвращение по этой причине не представлялось возможным, ибо расчистка канала заняла бы немало времени и даже двухнедельных ходовых испытаний оказалось бы недостаточно. В результате судно направили в Николаев. Во время испытаний особого внимания заслуживала работа грузового устройства, и никому из экипажа и многочисленных причастных лиц не приходилось ранее видеть воочию ничего подобного, и все без исключения горели желанием лицезреть действо собственными глазами.
Представить громадного «монстра» без крана невозможно, все равно что человека без рук. Даже крышку трюма без его участия открыть не удастся, так как при размерах 20×19 метров она весила 125 тонн. Собственных лихтеров еще не было – они все еще находились в постройке в далеких весях, и завод предоставил во временное пользование для испытаний несколько своих ящиков. Размеры их были совсем не малые: 19×9,5×4,5 метров – вот такой ящик, по форме напоминающий спичечный коробок. Началось с того, что кран поднимал и опускал пустые лихтеры, проверяя точность их расстановки и крепления в трюмах и на палубе. Вскоре наступил черед и подъема полностью загруженных, в результате чего случилась неожиданное происшествие, впоследствии принесшее немало хлопот. Кран застыл на корме, а судно получило видимый выгиб в миделевой части (плоскость перпендикулярная длине судна и делящая его пополам). Выгибы случались и раньше, что само по себе неудивительно при длине парохода в 260 метров и в приложении к корме нагрузки в сотни тонн, но они были невидимы и обнаружить их можно было при условии знания проводимых действий. В этом экстраординарном случае он был заметен невооруженным глазом даже непосвященному наблюдателю. По всей видимости, для сдаточной команды это событие стало неприятным сюрпризом, и тут же взяли балласт в центральные танки.
Принимающий, опытный капитан Владилен Петрович Юрьев, совсем недавно покинувший наш бренный мир в возрасте восьмидесяти пяти лет – мир праху его, – остановил испытания и потребовал занести случившееся в судовой журнал. Тут же при помощи ЭВМ, впервые установленной на морском судне, рассчитали изгибающие моменты при выкатывании крана на консоли, и они оказались выше предельных величин, что было немудрено при таком изгибе. Результаты расчета капитан, никому не доверив, забрал с собой, и впоследствии они здорово пригодились. По всей видимости, у мастера (общепринятое на мировом торговом флоте обращение к капитану, употребляемое во всех официальных документах и даже в судовой роли – официальном списке экипажа) были серьезные переговоры с пароходством и министерством по этому поводу, но по сложившейся традиции волевым указанием его все-таки заставили подписать приемный акт, и он, прекрасно знающий систему, сберег результаты расчета, дабы впоследствии не подставить себя под удар. Капитан Юрьев был не из тех, кого можно запросто заставить выполнить какое-либо спорное указание, не важно от какой инстанции оно происходило. При отсутствии письменных доказательств слова не имеют никакой силы, и их представят как необоснованное желание выйти сухим из воды, не более.
Тем не менее испытания закончились успешно, и последовало второе действие «марлезонского балета» – поход в Севастополь, где необходимо отработать военную программу. Носовые грузовые краны заменили двумя спаренными пятидесятисемимиллиметровыми пушками, на крыльях мостика разместили станки для запуска зенитных ракет, а с кормы опускали имитаторы шумов сигарообразной формы для формирования ложного следа торпедам и минам с акустическим наведением. На тамбурах у входа в трюмы установили скорострельные двадцатитрехмиллиметровые пушчонки, похожие на артиллерийское вооружение самолетов-истребителей Второй мировой войны. Вооруженный «до зубов» корабль неизвестной породы вышел в море, наводя страх на местных военморов; правда, до линкоров прошлой войны ему было далеко по причине явного несоответствия главного артиллерийского калибра, но кто знает, техника шагнула далеко вперед и, возможно, у него в запасе было что-то неизвестное и от этого еще более грозное. Скорострельная мелочь пукала негромко, но от стрельбы большего калибра носовая надстройка вздрагивала, что и немудрено, так как она находилась рядом c пушками и близкое препятствие принимало звуковые децибелы на себя. Случай редкий и удивительный, подобную стрельбу можно видеть лишь в старых фильмах, а тут все наяву, иногда хотелось ущипнуть себя: а не снится ли мне пальба? Целей не было, и стреляли в белый свет, как в копеечку. С боеприпасами тоже что-то было не так, и, скорее всего, их срок годности уже истек: один из них, оставляя за собой дымный след – не хватало, чтобы порох был дымным, времена которого давным-давно прошли и в боевых снарядах его не используют уже более сотни лет, – улетел куда-то в сторону. Таким вооружением разве что рыбаков на курсе пугать. Пристреляться при таком разлете будет трудно, хорошо, что настоящих противников в ближайшем будущем не предвидится.
Приемные документы были подписаны чисто, и судно официально вступило в состав пароходства, хотя работать по своему прямому назначению оно не могло. Несмотря на то что каждый лихтеровоз должен иметь три комплекта лихтеров, а это целых 246 штук, способных заполнить всю акваторию нормального порта, на самом деле не было ни одного и появление их в ближайшее время не предвиделось. Но недаром пароход был многопрофильным, и сыпучие грузы, так внезапно попавшие в список разрешенных к перевозке, оказались как раз кстати, и начали работать в режиме балкера, перевозящего пшеницу из немецкого Гамбурга в тогдашний советский Ленинград. Необходимо было чем-то заполнить месяцы ожидания окончания постройки лихтеров на каком-то волжском заводе и дальнейшего их сплава по речной системе Большой Русской равнины, бывшей когда-то совсем неприветливой степью, по которой на протяжении многих веков скакали несметные полчища кочевников, уводя в полон самых молодых и красивых для продажи на невольничьих рынках Турции и Крыма. Нестыковка между принятием в эксплуатацию «ковчега» и готовностью лихтеров продолжительностью полгода была скорее чем-то обычным в обстановке всеобщей несогласованности и неразберихи смежников.
Зима заканчивалась, и Атлантический океан все еще не унимался, а Бискайский залив, известный своим буйством, продолжал испытывать мореходов на прочность. Казалось бы, столь большому судну море по колено, словно подпитому мужичку. Но не тут-то было, проявилось очередное очень неприятное качество парохода. Хотя шторм и был самый настоящий, с двадцатиметровым ветром и волнами до пяти метров, но ничего выдающегося собой не представлял. Выяснилось, что метацентрическая высота в балласте (основной критерий остойчивости) зашкаливала, приближаясь к ледокольным значениям. Видимо, сыграл свою роль «кавказский» штевень судна, явно намекая на арктические просторы, потому что, когда пароход вылазит на паковую льдину и не в состоянии ее разрушить, при недостаточной остойчивости он может завалиться на борт и, как продолжение, сделать оверкиль, то есть перевернуться. От этой беды и спасает избыточная остойчивость. Хотя подобному поведению может быть и другая причина: остойчивость приходит в норму лишь в грузу, то есть амплитуда колебаний под действием ветра и морского волнения находится в пределах 15—20 градусов, что вполне комфортно для экипажа и судовых конструкций в полном грузу, с заполненными трюмами и двумя ярусами лихтеров на палубе.
Согласно чертежам, гигант почти непотопляем, даже если лежит на борту, ибо угол заката равен восьмидесяти градусов (угол заката – критическое наклонение судна, после которого оно может перевернуться). Но гораздо раньше наш монстр может утонуть по совершенно другой причине: дымовые трубы находятся по бортам, и при наклоне в шестьдесят градусов забортная вода начинает поступать в трубу наклоненного борта и через нее заливать машинное отделение со всеми вытекающими последствиями. Для всех четырех собратьев ввели специальный параметр остойчивости – угол заливания трубы, который ни при каких условиях плавания не может быть более критического. Обычные суда любых размеров и назначения гораздо лучше себя ведут в грузу, ибо для этого они и созданы, и метацентрическая высота в диапазоне 0,5—1,5 метра является нормальной в повседневной деятельности, за исключением лесовозов и контейнеровозов с палубным грузом, у которых при полной загрузке она минимальная. Высокая остойчивость приводит к резкой, стремительной качке, способной вырывать судовые конструкции, оборудование кают и превращать жизнь экипажа в кромешный ад, когда невозможно ни поесть, ни поспать. Стремительная и резкая качка даже при умеренном волнении возникает при малом периоде колебаний, порядка шести-восьми секунд, и прежде всего говорит о чрезмерной остойчивости, которую можно понизить, взяв балласт в верхние бортовые танки или распрессовать балластные днищевые танки, если они расположены от борта до борта, чтобы появилась свободная поверхность. В этом случае вся масса воды в них, сохраняя инерцию, перемещается в противоходе с наклонениями судна при бортовой качке, тем самым приводя амплитуду колебаний к приемлемым значениям и уменьшая остойчивость. Но это чисто теоретические выводы, а пока новенький лихтеровоз, на котором и муха не сидела, пересекал суровый Бискай, о свирепости которого так много написано и сказано, и он полностью оправдывал исторические эпитеты и метафоры, характеризующие его крутой нрав. Временами бортовая качка превышала сорок градусов с очень коротким периодом качки, и экипажу, давно отвыкшему от штормового моря, пришлось сразу броситься «из огня да в полымя», чертыхаясь и проклиная: «Зачем только я сел за баранку этого пылесоса?!» Непрестанная болтанка в течение нескольких дней лишила экипаж сна, выбрасывая из коек желающих прикорнуть, поотрывала двери и каютное оборудование, как и многое другое среди палубных механизмов. Отсутствие полноценного сна приводит людей в мрачно-депрессивное состояние, лишает аппетита, тем более что приготовить горячую пищу на камбузе, так же как и подать ее на стол и попробовать на вкус, тоже невозможно без риска получить увечье, ошпариться или обвариться (не дай бог, конечно).
Несмотря на непрекращающиеся мучения, каждому приходила мысль: выдержат ли крепления крана? Многотонное чудовище, обладая громадной тяжестью и инерцией запросто могло проломить борт или разрушить надстройку, то есть устроить настоящую катастрофу. Но, ко всеобщему удивлению, кран стоял как вкопанный, не реагируя на штормовые волны Биская. Кто придумал столь оригинальное крепление, остается неизвестным, хотя наверняка сведения о первооткрывателе существуют со всеми расчетами и нагрузками в самых экстремальных условиях где-то среди моря чертежей и схем в архивах проектантов. Перед предстоящим выходом в море кран подъезжал к месту своего постоянного нахождения и останавливался, а по бортам у него выдвигались четыре домкрата и точно вписывались в предназначенные гнезда. Фактически он не стоял на рельсах, а как бы подвисал над ними сантиметров на пять. В дополнение за счет особой формы фундамента для гнезд и крановой конструкции захват происходил и снизу. Опрокинуться он мог лишь с частью рельсов и солидным куском усиленной палубы, то есть в таком подвешенном состоянии он представлял единую с судном конструкцию.
За несколько месяцев работы на одном и том же плече экипаж привык к заходам в цивилизованные порты, да и, помимо увеличенных окладов по сравнению с остальными судами пароходства, совсем неплохо подрабатывал на зачистке необъятных трюмов от остатков предыдущего груза и подготовке к следующему, хотя пшеница, похоже, была одного урожая. При хорошо окрашенных трюмах, впервые используемых по назначению, работа не представлялась такой уж трудной и если бы не множество конструкций в трюмах, то приносила бы удовольствие при отсутствии штормовых условий и отрицательных температур, а оплата шла в зависимости от почти километровой площади семи трюмов, принося неплохие дивиденды. С экипажем проводились почти ежедневные интенсивные занятия по изучению всех механизмов, устройств и систем столь непростого судна. Помимо сложности устройств, которыми пароход был напичкан и со многими из них еще никому не доводилось сталкиваться, отечественные Кулибины и Ползуновы постарались усложнить даже простые вещи, чтобы никто не догадался. По крайней мере, создавалось такое впечатление после разгадки очередного зашифрованного ребуса.
Закончив последний зерновой рейс между Гамбургом и Ленинградом, ставшими почти родными портами, снова погрузили пшеницу и направились в Черное море, где поджидали сплавленные через всю страну лихтеры и «Косыгину» пришла пора работать по специальности. Рейсы между Гамбургом и Ленинградом были не слишком обременительны и могли бы быть еще лучше, если бы не погода Северного и Балтийского морей с сизыми, низко несущимися облаками, в любой момент готовыми разразиться небольшим снегопадом или унылым, скучным и бесконечным дождем, который неожиданно начинается и так же заканчивается, но даже лучик солнца не пробивает плотную пелену серого неба, вызывая чувство уныния и какой-то беспросветной обреченности. Но в Гамбурге все-таки чувствовалась наступающая весна: стало гораздо теплее, нет-нет да и показывалось ласковое солнышко, деревья тоже вскоре собирались покрыться свежей ультрамариновой зеленью, о чем свидетельствовали набухшие почки. Бывший ганзейский город с его монументальной северогерманской готикой встречал весну. В Ленинграде, хотя на календаре апрель перевалил за половину, изменения не чувствовались и по открытым проспектам по-прежнему гулял ветер, сопровождаемый то ли моросью, то ли мелким дождем, заставляя зябко ежиться и прятать лицо от насыщенного холодной влагой воздуха.
Известие о следовании на юг, в Черное море, к месту рождения своего парохода, обрадовало всех, и настроение сразу же изменилось в лучшую сторону, а лица просветлели. В последний раз загрузившись в Гамбурге, одном из главных городов бывшего Ганзейского союза, все той же пшеницей, на этот раз адресованной в черноморские порты, снялись в южные края. Странно, по идее, пшеница должна идти из причерноморский житницы на север Германии, а здесь совсем наоборот, но «жираф большой – ему видней». Прощайте, неприветливые моря и балтийские проливы, а кто знает, может, до свидания! В Ильичевске, первом порту выгрузки, стояло настоящее лето, и гардероб сразу же поменялся с зимнего на летний, минуя промежуточную стадию, словно в круизах из зимы в лето. Деревья зеленели, покрытые первой ярко-изумрудной листвой, еще не утомленной жаркими солнечными лучами, и их первозданная свежесть так и привлекала многоголосое птичье племя, занятое своими вечными заботами по устройству гнезд и оспариванию мест обитания, приглянувшихся для постоянного гнездования и вывода птенцов. Повеселевший судовой люд на пароходе было не удержать, и свободные от вахт и работ сразу же устремлялись в недалекую Одессу, где множество соблазнов и до которой немногим более получаса езды автобусом.
Познакомиться с легендарным городом, о котором столь много сказано и написано, стремились все непосвященные, а те, кому уже пришлось там побывать, ни в чем не уступали неофитам и, уже будучи знакомыми с неповторимым шармом черноморской столицы, были заражены ее неповторимым обаянием. Одесса уже проснулась от межсезонной скучновато-серой монотонной тягомотины влажной и мрачной зимы, когда неделями не увидишь даже единственного солнечного проблеска, и снова входила в свой привычный оживленный, непринужденно яркий и радужный наряд, столь привычный для ее многочисленных поклонников во всех уголках земного шара. Пляжный сезон еще не наступил, и отдыхающих было сравнительно немного, что, в свою очередь, расширяло возможности судового народа, позволяло экономить время, не простаивая в очередях, которые с каждым годом становились все длиннее. Никто не забыл пройтись по Дерибасовской и заглянуть в знаменитый «Гамбринус», так хорошо представленный Александром Ивановичем Куприным, выпить кружку пива с раками и послушать скрипку в руках самого Миши, которого продолжали называть так же, как и тридцать лет тому назад, несмотря на преклонный возраст и его голую, как куриное яйцо, голову с торчащими по бокам редкими седыми вихрами. Затем выйти на Приморский бульвар и посмотреть на раскинувшийся внизу порт и пройтись по Потемкинской лестнице, собственноручно, а вернее, собственными ногами пересчитав количество ступенек.
Оставшуюся часть груза выгрузили в Новороссийске, который, конечно, не Одесса, но все приметы морского портового города имеет. В те времена его визитной карточкой для водоплавающих многих поколений являлся ресторан «Черноморец», расположенный на центральной улице, и с ним связано множество историй – правдивых и сомнительных. Посетил ли кто-нибудь Малую землю, широко известную тогда из повествований бывшего полковника Брежнева, начальника политотдела восемнадцатой армии генерал-лейтенанта Константина Леселидзе, неизвестно, хотя после смерти самого орденоносного генсека не прошло еще и двух лет. Сразу вспоминаются слова из жуковских воспоминаний первых изданий: «Полковник был так занят, что не счел нужным встретиться с заместителем Верховного, маршалом Жуковым, который хотел с ним поговорить!!!» Большую ахинею выдумать было нельзя, но все-таки вынудили маршала разрешить сделать такую вставку, хотя, кроме гомерического смеха, этот пассаж вызвать ничего другого не мог. В противном случае жуковские «Воспоминания и размышления» не имели шансов увидеть свет.



