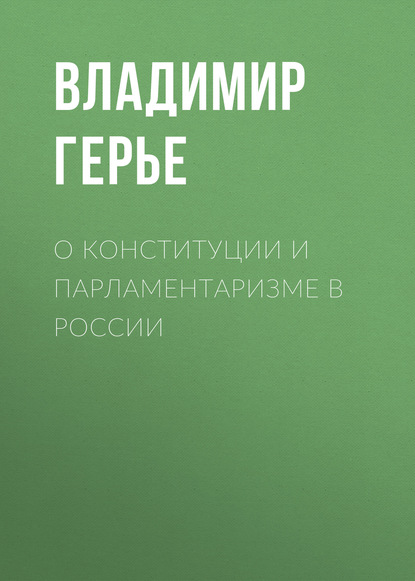 Полная версия
Полная версияО конституции и парламентаризме в России
III
Кроме двух вышеназванных полномочий, участия в законодательстве и установлении бюджета, Государственной думе предоставлено в русской конституции еще одно важное право – обращаться к министрам с запросами по поводу «таких, последовавших с их стороны или подведомственных им лиц и установлений действий, кои представляются незакономерными» (ст. 108 Основных законов и 33 Учреждения Государственной думы). Одна эта статья может произвести переворот в стране, устранить не только произвол в администрации, но внушить и обывателю чувство законности, что не менее важно. Право запроса, осмысленно осуществляемое, может постепенно обратиться в постоянный и бдительный контроль над всей администрацией. Один немецкий историк сказал: «Лучшая заслуга немецких ландтагов и рейхстагов в том, чему они помешали, а не в том, что они совершили». Конечно, этот контроль должен производиться с пониманием дела и с достоинством.
Неответственные крикуны, говорившие в Государственной думе то, за что каждого гражданина привлекли бы к мировому судье, и у нас мало принесли пользы.
Как правом установления бюджета, так и правом запроса можно злоупотреблять ради политической борьбы. Первым – для того, чтобы привести правительство в полную зависимость от Думы или распоряжающихся в ней партий, вторым, – как это уже было во время первой Думы, для устранения министерства и захвата министерской власти. Последнее стремление прикрывается громким словом, но по смыслу весьма неопределенным – ответственность министров. Всякий человек должен быть ответственен за свои слова и действия, тем более лица, занимающие высокие и ответственные посты; поэтому всегда можно рассчитывать на популярность требования ответственности министров перед народными представителями. Этот термин был и на самом деле весьма популярен на Западе в начале конституционного движения. Но с тех пор взгляд на значение ответственности министров очень изменился. Самое понятие заимствовано из Англии, где оно находилось в связи с так называемым impeachment, правом нижней палаты предавать министров суду верхней палаты. Но в Англии это оружие заржавело и давно не вынималось из ножен. В Англии, где король бессилен и правительственная власть находится по очереди у двух давно сложившихся парламентских партий, нет надобности прибегать к таким радикальным средствам. Господствующая партия щадит, конечно, министров, вышедших из ее рядов, а оппозиция, резко нападающая на министров у власти, сама добившись власти, оставляет их в покое. Во французской конституции 1791 года, основанной на принципе разделения властей и потому не допускавшей кабинета из депутатов, ответственность министров служила средством «законодательным собраниям» подчинить себе правление «неответственного» короля. Подобное значение имела ответственность министров и в других конституциях, усвоивших себе принцип народовластия. Но в монархических конституциях ответственность министров в этом смысле оказалась неуместной. Это особенно ясно из примера Пруссии. Конституция этого государства по вышеуказанной причине восприняла статью об ответственности министров с пояснением, что способы этой ответственности будут установлены особым законом. Но этот закон так и не был издан; таким образом, статья об ответственности министров осталась lex imperfacta) – как бы недоговоренным законом. Кроме того, конституция имела в виду, что жалобы на министров должны быть приносимы палатою в Верховный апелляционный суд.
Но когда после возникновения империи была введена новая имперская судебная организация, упомянутый Прусский суд был упразднен, и в Пруссии некуда жаловаться на министров.
Эта атрофия ответственности министров в сильном государстве весьма понятна. По существу ответственность министров двойная: политическая и юридическая. Последняя может заключаться в поступках, подлежащих ведению гражданских или уголовных судов, или в проступках по должности, не заключающих в себе уголовного проступка. В первом случае дело может быть обращено в соответствующие суды, для случая второго рода должен существовать особый дисциплинарный суд, как и для других членов администрации.
Но все подобные случаи будут довольно редки. Гораздо более значения имеют для Государственной думы и для общества вообще такие действия министров, которые нужно отнести не к юридической, а к политической области, где речь не может идти о закономерности, а лишь о «целесообразности», но кто же тут будет судьею? Если палата, то она будет судьею в собственном деле, если какой-нибудь суд, то он будет призван решать политические вопросы, что не может входить в сферу суда.
Перед кем же должны быть ответственны министры?
В монархическом государстве, хотя бы и в конституционном, они должны быть ответственны только пред монархом. Конечно, монарх не станет держать министров, неспособность или даже негодность которых будет разоблачена пред ним и пред всею страною Государственною думою или Государственным советом. Но его нельзя обязать удалять своих министров в тех случаях, когда они во внутренней политике или в государственном хозяйстве не сойдутся с вожаками партий в Думе. Если конституция предоставляет право монарху утверждать или не утверждать законопроекты Государственной думы, то тем более нужно ему предоставить свободный выбор министров из Думы или не из Думы. Нельзя лишать монарха того, на что имеет право последний гражданин: права действовать по своему убеждению и не действовать против своего убеждения. Наследственный монарх не может подать в отставку, подобно президенту республики. И какая же польза может быть стране от навязанных монарху министров?
А теперь последний вопрос: ради чего и ради кого должен русский монарх поступаться своею совестью и конституционною властью?
Говорят, во имя парламентаризма! Но парламентаризм есть передача государственной власти партиям. Нельзя не относиться с сочувственным уважением к английским парламентарным партиям с их крепкими традициями и неподражаемым политическим механизмом, которым держится величие Англии.
Конечно, и английский парламентаризм имеет свои недостатки: система подкупа и «гнилых местечек» миновала, но патронаж и кумовство (connexion), ухаживание за избирателями и громадные траты на выборах присущи и теперь парламентаризму. Важнее же всего то, что удивительный механизм этой системы держится аристократическим строем Англии и по мере разложения этого строя приходит постепенно в расстройство.
Но где на материке существует подобный парламентаризм? Напрасно вздыхают итальянские патриоты и указывают своим соотечественникам на двухпартийную систему Англии как на высокий образец; другие патриоты приходят в отчаяние от местного парламентаризма и видят в нем школу политического развращения. Конечно, парламент, в котором «адвокаты без занятий» составляют целую треть членов, не может быть образцом. Лишь два европейских государства обзавелись наподобие Англии двумя партиями, борющимися за министерские посты, – Бельгия и Бавария, но это карикатуры на Англию, так как в этих странах парламентская борьба происходит между партией клерикалов и либералов, из которых первые добиваются подчинения государства ультрамонтанскому идеалу и отождествляют консерватизм с застоем, а вторые сводят прогресс на борьбу против духовенства и религии. Не две, а изобилие партий и групп порождает в других случаях конституционализм. Руссо, апостол народовластия и демократии, считал последнюю возможной лишь при полном отсутствии партий, ибо в каждой партии он видел проявление частного интереса и отступление от общей воли. В действительности партии неизбежны, ибо немыслимо общество, даже небольшое, где воли и интересы всех были тождественны. Но с точки зрения идеализации демократии Руссо был прав, осуждая партии.
«Относиться к партиям с идеалистическим восторгом, – справедливо заметил один политический мыслитель, – способны лишь незрелые юноши».
В основе образования партий лежит большею частью какой-нибудь материальный интерес, часто какая-нибудь теория или доктрина (клерикализм, революционный фанатизм и т. п.), иногда то и другое вместе, т. е. теория и интерес. Еще хуже, когда подкладкою партии является ненависть к другим партиям, классам, к экономическому строю или к религии вообще или какой-нибудь особенной. Поэтому партии большею частью односторонни, ослеплены, несправедливы, упрямы, склонны ставить партийный интерес выше разума и общего блага. В некоторых случаях партии принимают уродливый характер, являются опасным наростом на общественном организме, когда в основании их лежит воспоминание о претерпенной обиде или упорное поклонение исчезнувшему идеалу или поверию.
При таких условиях политическая деятельность партий бывает весьма часто неблагоприятна для хода дела. Они обособляются в парламенте, даже самые незначительные из них; каждая из них имеет своих вожаков, свои отдельные собрания, на которых предрешаются вопросы, подлежащие обсуждению в общем собрании. Члены партии или группа входят в это собрание с определенным решением; они и не слушают ораторов других партий, они глухи для самых разумных и красноречивых аргументов с другой стороны. Они не граждане, а рабы партийной дисциплины. Что значит этот бич партийности, этот абсурд парламентарной жизни, мы все знаем по недавнему примеру. Кому неизвестно, как состоялось выборгское воззвание? Как горячо говорили против него многие из подписавших его; какие аргументы были пущены в ход, чтобы заставить несогласных подчиниться партии; как успешно действовала партийная нагайка (whip).
При такой обособленности партий и групп парламентарная жизнь подвигается лишь путем сделок и компромиссов – взаимно между партиями или с правительством. Парламентаризм действительно обращается в ярмарку, как выразился вышеприведенный поклонник его; на немецком парламентарном языке выработался для этого особый технический термин, не особенно почтительный – Kuhhandel. Особенным искусством отличается в этом отношении клерикальная партия в рейхстаге. Эти сделки весьма часто носят на себе печать происходившего из-за них торгашества – к выгоде сторговавшихся, но в ущерб стране. Другой недостаток партийной политики – это отсутствие чувства ответственности: отвечает не лицо, а партия, и весьма часто за какую-нибудь неудачную финансовую или экономическую меру отвечает правительство, которому приходится приводить ее в исполнение. Ибо кто помнит истинных виновников ее?
Вредное влияние партии не ограничивается стенами парламента, а простирается посредством партийной печати на общество. Кто принадлежит к партии, читает обыкновенно лишь партийную газету и становится неспособен понимать точку зрения других партий. Как случайны, как изменчивы и непрочны самые партии! Они зависят отхода выборов, они исчезают вместе с настроением, которое их породило!
Может ли народное представительство, состоящее из множества случайных партий и групп, проникнутых враждой друг к другу, не обладающее ни политическими традициями, ни опытом, никакой сдержкой, кроме партийного терроризма, может ли такое народное представительство управлять великой империей?
Но специализируем вопрос: какой же из современных русских партий следует на основании парламентаризма вручить правительственную власть? Социал-демократической ли партии, которая по именам своих членов скорее представляет собой партию освобождения Кавказа от России, чем освобождение России от капиталистов? Или группу трудовиков, весь труд которых сводится к тому, чтобы сделать невозможным какое бы то ни было правительство? Или кадетам, которые все еще не могут выйти из своей роли конспираторов и стремятся освободить Россию от единственного класса, способного нести на своих плечах самоуправление и конституционное правление? Или истинно русским людям (если они попадут в Государственную думу), которые по старинному рецепту plus royalistes que ie Roi и приносят делу, которое они защищают, более вреда, чем пользы?
И какую же минуту выбрали для водворения в России владычества партий? Один из наиболее глубоких мыслителей нашего времени, историк Буркхард, говорит в своих посмертных наблюдениях над всемирной историей, что в революционные кризисы число обыкновенных преступлений уменьшается… Если б он дожил до русской революции, ему пришлось бы сознаться, что ход истории изменился… Когда в России совершалось более уголовных преступлений, грабежей банков, почт, частной собственности, погромов с бессмысленным истреблением жилищ, хлеба и скота, как не в дни освобождения, когда не отличишь, где кончается освобожденец и где начинается разбойник? Придется и России испытать на себе слова Вашингтона: «Народ, который не хочет видеть, должен будет почувствовать». Но неужели русскому народу недостаточно опыта с родственным и соседним ему польским народом?
Неужели русская демократия проделает над русским государством то, что сделало со своей отчизной польское шляхетство?
Сноски
1
определенные полномочия (фр.)



