
Полная версия:
Перстень с солитером
3
И вот я опять в этих местах. Хотелось сразу побывать везде, увидеть сразу всё, что когда-то было моим миром.
Остров перестал быть купальней, вырос и превратился скорее в выступ берега с топкой перемычкой. На вышке по-прежнему из земли виднелся краснокирпичный фундамент, разве что больше ушёл в землю и зарос. Посреди него – старое пепелище от огромного костра. Окопы вокруг превратились в сильно заросшие канавы. У того самого дуба появились сухие ветви, и он уже не казался таким огромным и могучим. Под ним, впрочем, стояла новая лавка. Всё вокруг состарилось и как-то съежилось.
Друзья постарше были в армии, у ровесников свои дела, и посвящать в них меня они не спешили – я стал чужим. Владимир Кузьмич, как мне сказали, в полном здравии и уме, постарел только сильно. Из деревни теперь редко отлучается и чаще по вечерам сидит у околицы.
Где-то через неделю я увидел его. С каким нетерпением я ждал этой встречи! Владимир Кузьмич сидел под дубом один, в том же картузе, новой рубахе, с палочкой в руках. Постарел он действительно сильно. Я поздоровался.
– Володя! – обрадовался он. – Здравствуй.
Раньше он никогда меня не звал по имени. Впрочем, раньше он меня никак не называл.
– Дай-ка я посмотрю на тебя. Вот ты какой стал… Возмужал! Да садись, садись!
Мы разговорились: больше о здоровье, о родных и знакомых.
– А помнишь, Володя, про барина я тебе рассказывал? Вышку?
– Как можно? Всё помню! Всё!
– Ну и хорошо… Холодать уже стало. Пойду я, пожалуй, а ты посиди, посиди, здесь хорошо…
Старик встал и медленно пошёл домой. Я его не видел ещё дня два, а на третий встретились мы у его дома.
– Володя, что же ты не заходишь ко мне? Ты ведь у меня никогда и не был! Заходи!
Через узкое крыльцо мы прошли в избу – довольно просторные тёмные сени, посередине длинный стол, на нём вёдра с водой, за ним топчан, на стене полка с инструментами, над ней старинная лучковая пила, сбоку дверь, закрытая на засов. «Должно быть, эта дверь в пристроенный сарай», – мельком отметил я. Другая дверь, обитая войлоком, вела в жилую часть дома. Хозяин с заметным усилием распахнул её, и я оказался в комнате с отгороженной кухонькой, большой русской печью, рядом с которой была совсем маленькая, с конфорками. У окна массивный стол, с одной его стороны обшарпанный резной стул с остатками некогда зеленой кожи, с другой – сундук, покрытый лоскутным одеялом, перед столом большая лавка. На тёсаной, казалось, полированной, стене – ходики, зеркало, численник и фотографии. Под ними кушетка с заправленной постелью. Ещё дверь, запертая на кованый крючок, но, куда вела она, не знаю.
– Это мои родители. А это тётка. Первые фотокарточки в деревне! Эти, правда, уже после войны племянник сделал из прежних попорченных. Те небольшие были. Отец крупные портреты любил! Тут братья и сестра. Царствие им небесное! Ну, это я в партизанах с командиром нашим: благодарность выносит. А тут… тебе неинтересно будет. Да ты садись, садись сюда, на стул. А я по привычке на сундуке посижу. Самовар сейчас будет!
За чаем мы опять вспоминали родственников и знакомых, затем ещё раз рассматривали фотографии, теперь уже внимательно, и снова сели за стол.
– Что же, Володя, ты про барина не спрашиваешь?
– Неловко как-то.
– А знаешь, я ведь Леманна-младшего, ну, брата барина, хоронил. Под чужим именем, правда, да господь разберёт…
– С этой вышкой я тогда чуть с ума не сошёл, – это было произнесено так, будто давний разговор о Леманне и не прерывался.
Всё ходил туда и догадался: барин велел Немцу, имени-то его не помню, потайной колодец под вышкой сделать, спрятал туда добро да каменщика и утопил, должно быть. Вышку поджёг – и бежать. Прямо как чувствовал что. Думал, кто там искать будет? И место приметное, всегда отыскать можно. И решил я, брат ты мой, выкопать клад!
И вот, как-то ночью взял лом, лопату – да и на вышку. Как сейчас помню: вышел из избы, кругом тихо, на небе ни облачка, луна светит, а когда до вышки дошёл, туча из-за леса вышла, ветер поднялся, и только я ломом по пятачку стукнул, как молния сверкнула, гром и ливень начался. А ведь рановато для гроз! Вспомнил тогда слова барина, страшно стало, перекрестился – и назад.
Только клад из головы не выходит. По ночам то жена-покойница снится, то клад, то жена, то вышка. Аккурат на Зосиму, помню, лёг не в избе, а в сенях, печь больно натопил да всю ночь на новом месте и ворочаюсь, никак уснуть не могу, чудится мне, будто барин клад выкопать хочет. Измучился весь… Встал – и на вышку. Подхожу и точно: кто-то стоит на коленях, рядом фонарик, и саперной лопатой скребёт. Ну, я подкрался и навалился на него покрепче. Он и не сопротивляется! Кто такой, спрашиваю? А он хрипит только, отпустил его да фонариком и посветил. Гляжу, а это брат барина!
– Что, – говорю, – братец каменщика утопил, вышку поджёг и был таков, а ты добро забрать хочешь?
А он шепчет:
– Кто ты?
– Не узнаёшь? Сторож я! Мы уже раз виделись!
– Умираю…
И впрямь: лежит, не шевелится и тихо стонет. Ну, я лесом и принёс его в избу.
Смотрю – батюшки, да он ранен в плечо. Лечил его, конечно, как мог. А чтобы никто не знал, положил его в маленькую комнату, тогда у меня пятистенка ещё большая была. Так вот, дня через два ему полегчало, поразговорчивее стал. Спросил, откуда я про клад знаю.
– Догадался, – говорю.
Позже и рассказал мне. Приехал к нему брат, плачет: дескать, имение растащили, вышку сожгли, в ревком отвезли и там всё фамильное отобрали – ценность представляет. Одни часы оставили. Прощения просил.
Они с братом-то из-за наследства разошлись, вроде как не поделили.
Леманн много мне чего рассказывал: и про семью, про всех дедов да прадедов, и всё у него цари да бары, купли да продажи. Да я мало чего про это запомнил – он о своём семействе говорит, а я о своём всё думаю. Сказывал, что поначалу брату поверил. Да и как не поверить? Кругом тогда что делалось! Свояченицу, сказывал, приютить пришлось, её сразу раскулачили. Просто выгнали из дома со всеми домочадцами, а она, говорит, шутила:
– Мы гордиться должны, что в нашей усадьбе главный штаб сделали! Так-то! Только потом сомнение его взяло: отчего это, скажем, часы оставили? Якобы редкие они были, с фигурами, эмалированные, от деда. И сокрушался братец-то больше о перстне.
– Дурачье! – говорил, – а туда же, Россией править хотят!
На перстне-то резьбу увидали, так больно подозрительной показалась, чуть ли ни шифровкой. Ювелира местного приволокли, тот трясся, как осиновый лист. Тоже дурак, всё «не знаю» да «кажется» мычал. В Кремле об этом узнать советовал. Эко хватил! Так ведь поехали в Кремль!
Когда брат в Париж уехал, он ещё больше засомневался. А позже сюда примчал, и мы с ним случайно и встретились. И после этого все его сомнения развеялись: где-то, думает, на усадьбе фамильное спрятано. Но где? Разве найдешь!
Поехал он в Рузу… Руза не Москва! Разыскал там ювелира, оказалось, никакой он не ювелир, а больше часовщик, хотя тоже не очень, но лавку держал. Ювелирным делом только поначалу занимался. У всех, видишь ли, лавки: и у Шевердяевых, и у Кармалина, у Зуева, на что уж купцы известные, и то… а у него на вывеске – «Магазин»… из немцев! Он за деньги-то и рассказал, что действительно в ревкоме ему перстень показывали и надписью интересовались: давно ли она сделана. Сказал, что вроде давно, ещё сказал, что вещь старинная и лучше о ней справиться у ювелира кремлевской ризницы, его якобы дальнего родственника.
И решил младший Леманн хотя бы перстень вернуть, а как – и сам ещё не знал. Вернулся в Москву – и к ювелиру; представился и сразу о перстне-то и выложил, хотя, конечно, никакой уверенности, что перстень у него, не было. Разве узнать что. Да не сразу у них сладилось-то. Леманн ему о своих предках рассказывал, то да сё, просил всё перстень фамильный показать, говорил, что из России скоро уедет.
С этим перстнем-то у них в роду предание от отца к сыну шло. Будто бы прапрадед их в Россию Лефортом был выписан в наставники русской армии. Да ничего путного из этого не вышло, так я понял, хотя и чин имел. Прадед тоже военным был и в турецкую кампанию у какого-то нАбольшего турка перстень-то и отвоевал. Откупиться тот хотел. Перстень тоже, знаешь… исторический! Якобы царей тамошних. Во как! И умудрился, запамятовал уж через кого, самому Потёмкину поднести, а тот храбреца пожелал видеть, за подвиг перстень вернул и велел надпись на нем сделать. Только слова все никак не умещались, и решили тогда одни первые буквы вырезать. Вот надпись-то чудная и получилась. Об этом, говорит, даже Попов писал. А кто такой – спросить не случилось… Что за слова там были, я не упомнил – речь-то больно непривычная. Вроде как даже с укоризной. Да…
Ювелир-то признался, что приходил к нему студент-недоучка, весь расхристанный, ободранный, как после драки. Аж перепугал всех! Да как не впустить, ведь при мандате! О надписи расспрашивал, о камне и приказывал перстень у него оставить. Ну, тот возражал: говорил, что к ценностям Кремля это никакого отношения не имеет. Да разве поспоришь? Вынул тот револьвер и расписку продиктовал, сказал, что некогда ревкому побрякушками заниматься, обещал скоро вернуться.
А перстень-то он так и не показал…
Однако была у ювелира коллекция копий. Все камни ризницы себе сделал и дома держал. И так ему перстень понравился, что скопировал и его и даже надпись воспроизвел. Вот он Леманну копию-то и показывал. И ведь что тот шельма придумал: уговорил какого-то вора всю коллекцию унести и ему отдать. И только он её получил, так сразу к ювелиру.
– Проститься, – говорит, – пришел. Россию покидаю.
Ну, и на стол поставил, наверное.
– Хочу, – говорит, – последний раз на фамильное взглянуть. А ювелир чуть не плачет:
– Ограбили! Коллекцию унесли!
Леманн у него потихоньку выпытывать стал: не заявлял ли он куда о пропаже. Ювелир не заявлял – камни-то ненастоящие. Да и заяви – себе дороже будет.
Братец-то ему всё о своем, о перстне. А когда хозяин захмелел, то и согласился незаметно его в хранилище провести. Пришли они: ювелир на камни смотрит, причитает, а перстень отдельно хранился, его Леманн взял и слезу пустил да, улучив минуту, и подменил на копию. Поплакали они да так же незаметно и вышли. Правда, Леманн-то из благодарности ювелиру коллекцию домой подкинул, а, скорее всего, подумал, что тот и так догадается, кто украл. Ювелир, небось, ещё не раз его вспомнил. Ведь в конце той зимы ризницу обокрали! Почитай, самого патриарха! Не приведи господь!
Старик медленно перекрестился.
– На тридцать миллионов золотом унесли! Вся Россия гудела. Вот я и думаю: с чего это вдруг решили Кремль обобрать? Небось, копии камней увидали, так кровь в башку-то и ударила… Леманн, кажись, тоже так думал, говорит:
– По газетам следил, что у вас тут делается. Никак не ожидал, что ризницу ограбят. Кошмар!
– А там кто его знает? К себе, конечно, не вернулся и сбежал во Францию. Чужбина, она, знаешь, не мать родная! Да… Только перстень там не смог продать: всё казалось ему, что настоящей цены никто не давал. И о кладе всё думал и догадался. А догадался – и сам не рад… Точно обезумел, говорит. Так-то, брат ты мой! И решил он всё фамильное во что бы то ни стало забрать. Да только, говорит, сразу всё не так пошло, как кто сглазил! Ну, при переходе границы и ранили его.
Владимир Кузьмич снова заварил чай и продолжал:
– А когда понял, что не суждено ему фамильным-то владеть, так всё выговориться хотел, доказать всё чего-то пытался. Предков вспомнил, брата, себя жалел, говорил, большими людьми стать могли. Вот вся сила в разговоры и ушла. А перед самой смертью перстень мне сам отдал и просил только об одном: похоронить его по-людски. В Иванов день умер. Царствие ему небесное! Да похоронить-то непросто. Взял я грех на душу – за родственника приезжего его выдал. Бог милостив! Обошлось… А вскоре и братья погибли…
Старик, беззвучно шевеля губами, перекрестился. Помолчали. Чувствовалось, он устал.
– И вот, сижу я один, кручу перед лампой перстень… Камень красивый такой, затейливый, радугой так и играет… И так мне от всего этого тошно стало! Веришь ли, Володя? Хоть в петлю! Взял я тогда лом, лопату – и на вышку; закопаю, думаю, и его туда же. И не заметил, как у каменного пятачка оказался-то! И так в сердцах его ломом хватил, аж угол отлетел. Пятачок-то сковырнул и… опомнился. Назад хотел было повернуть, да уж никак нельзя! Разворотил щебенку, она как будто сцементирована была. А под ней через полметра так – плита цементная на кирпичной кладке лежит и по углам плиты – крюки железные. Я и так с ней и эдак, ну никак поднять не могу – здорова больно и сдвинуть-то в яме некуда. А тут уж светать стало… Засыпал яму и пятачок назад еле поставил да и домой пошёл. К дому уж подходил, как дождик начался и лил с неделю.
А я, брат ты мой, хуже Леманна стал: чего только не передумал, о ком только не вспомнил! И перстень этот окаянный нет-нет да и достану… За окном льет… В избе один… Вот когда волком выть! Грешным делом думал даже в Москву податься, перстень продать, обжиться там, клад достать да тётку к себе перетащить… Только пустое это всё… По кругу… Однако, разъяснело. Сделал я ворот – и снова на вышку. Сдвинул пятак, выгреб щебенку, ворот поставил да верёвкой за крюки и зацепил, как сейчас помню: стою и не знаю, что делать. Прямо затмение нашло какое-то! Кругом тихо так, луна светит, а я словно жду чего-то.
Вдруг где-то на усадьбе ночная птица прокричала нехорошо так. Очнулся я и плиту давай поднимать. Под ней колодец узкий. Посветил в него фонариком Леманна, там… сияние – ларец перламутровый. Достал его – воистину красота! На крышке герб, ручка витая, кажись, серебряная. Хотел было сейчас же и открыть, да нечем! И ломать-то жалко. А тут опять птица кричит где-то совсем рядом, прямо-таки над ухом. Я чуть ларец не выронил! Просто наваждение: забыл, зачем пришёл! Положил я тогда на ларец перстень, закрыл колодец, засыпал всё, пятак на место задвинул, схватил ворот – и бегом домой. Во как, брат ты мой!
Владимир Кузьмич ещё раз перекрестился. Помолчал и каким-то чужим, охрипшим уже голосом, продолжил.
– А днем тётка проведать пришла – не захворал ли. Я с ней и закрутился, а потом и вовсе не до клада было, да и успокоился я. Много чего насмотрелся, много чего передумать да пережить пришлось, вот и успокоился.
Старик умолк, и в напряжённой тишине отчетливо стало слышно его тяжелое дыхание да такое же тяжелое тиканье часов.
Я пребывал в некотором замешательстве, хотелось скорее спросить о дальнейшей судьбе клада, но отчего-то никак не мог найти нужных слов. Сам вопрос казался мне неудобным, никчемным, даже наглым.
– А ближе к войне забрали меня в НКВД, – прервал затянувшееся молчание Владимир Кузьмич. – Следователь больно въедливый попался и после каждого слова все «так» добавлял. Говорит:
– Это кто? – и показывает мне фотокарточку.
– Барин, – говорю, – наш!
– Ваш, значит? Так! А что, деревня на его земле была?
– Да нет, – говорю, – только раньше, года до 11-го, ежели помню. У нас деревня вольная, как все.
– Так! Вольная, значит? Так! А ты у него сторожем был?
– Не то чтобы сторожем, но сторожил постройку одну – вышку.
– Не сторожем, но сторожил? Так!
– А это кто? – и показывает мне ещё фотокарточки.
– Не знаю, – говорю.
– Не знаешь? Так!
Трое суток мурыжил с зуботычинами, о прислуге расспрашивал, барине, да что я знаю, мужика какого-то показывал, еле отговорился. Да… Думал, в Москву повезут, ан нет… выпустили.
А потом в газете про барина сам читал: главарём диверсантов он оказался. Он и ещё четверо хотели мост у Филей взорвать. Взяли их там с поличным: с инструментом, лопатами, при оружии. К расстрелу приговорили.
Помолчали. Владимир Кузьмич не торопясь отодвинул блюдце и поставил на него вверх дном чашку, важно огладил седую бороду и тихо произнёс:
– Старый он больно был, может, и с головой что, но четверо – это слишком. Вопрос?.. Брат ты мой.
Глаза старика потухли и наполовину закрылись, лицо сделалось безразличным, будто окаменело. И снова тиканье ходиков стало невыносимо громким, молчание – бесконечным. Чтобы как-то разрядить обстановку, я осторожно поинтересовался, рассказывал ли он еще кому. Владимир Кузьмич встрепенулся, сел поудобнее, в прищуре глаз появилась теплота.
– В конце 41-го, ещё в партизанах, рассказал командиру нашему. Тогда мы аккурат в лесу за рекой стояли. Всё рассказал как на духу. Да только показалось, не поверил он – молодой ещё. Говорит:
– Что же ты, Кузьмич, предлагаешь операцию планировать, на рожон лезть? Да если даже мы высотку займём, что там? Там ведь перерыто всё. И что в шкатулке – тоже неизвестно. Не Шереметьев же твой барин. А если и есть чего? Что же ты, спросят, следователю не сказал? А? Так что помалкивай лучше! После победы сам сдашь. Ты всё понял?
– Вот так-то, брат ты мой!
Как только Рузу освободили, я сразу плотничать в бригаду пошёл. В мою-то избу снаряд попал, аккурат в печку, хорошо – калибр небольшой. Внутри разворотило всё, крышу сдвинуло да попортило, а стены раздуло только малость. У соседей хуже. У кого – и вовсе ничего не осталось. Моя-то у леса – это, думаю, и спасло. Поправил с пята на десято и в бригаду. Помотало нас… не приведи господь! А что лишнего сболтнёшь, только тебя и видели. Время такое было. И после войны тоже, знаешь… Да и дел свалилось… Избу править надо. Она так и стояла. Никто не тронул. Да и кому? От деревни четыре двора осталось – и те со старухами. Ну, перестроил её, из большой маленькую сделать – не задача! А рядом так ничего и не построили. Вот и живу на отшибе… как барин.
Владимир Кузьмич хотел было подняться из-за стола, но передумал и продолжил:
– Да, чуть не забыл. О перстне-то мне ещё однажды услыхать довелось. Вот ведь память треклятая!.. Встретил как-то я артельного… ну… с Новосельской пуговичной фабрики, давно это было, ещё до войны. Так вот, за разговорами и выяснялось, что комитет-то они в 17-м организовали, да толку мало: особо никто их и не признаёт. Пришлось в Москву петицию писать. А самым грамотным у них был студент, знаешь, из «кухаркиных детей». Больно бойкий, говорит, был и начитанный страсть как, политическими словами так и сыпал. Только, значит, они бумагу-то составили, а тут деревенские барина притащили, шумят, а чего шумят – и сами не знают. Раз сбежал, кричат, значит, контра, раскулачить германца подчистую, расстрелять – и точка. Да на стол всё отобранное и вывалили. Как же, поделить надо! Ну, студент и говорит:
– Земля с постройками – это по декрету, а часы, украшения, кошелёк, прочие – это воровство, а Советская власть с воровством как раз и борется.
А старший-то их надпись на перстне увидел и спрашивает:
– Что это тут такое зашифровано?
Барин гордый был. Здесь, говорит, подвиг прадеда зашифрован, и молчит. Вот за ювелиром и послали. Разберёмся, мол, когда что зашифровано. Ювелир-то со страху готов был отца родного выдать, всё валил на московского родственника. И ведь что студент предложил: под расписку перстень отобрать и вернуть, когда барин сам добровольно землю и добро передаст. Это, говорит, будет актом признания ревкома. На том и порешили. Барина отпустили, и на другой день в Москву старший со студентом петицию повезли, а за одно и перстень с собой взяли. Только старший в дороге сильно простыл, так что, считай, студент один всё сделал и очень даже неплохо. Такого делового партейца прислали. Что ты! Певунов! Он порядок живо навёл. Гвардию организовал, с мест контру вычистил. И так в гору пошёл, что потом ГубЧК возглавил. С Лениным встречался! Вот так!
Правда, со студентом у него не сложилось, разногласия сразу пошли. Ну, студент в Москву вроде как жаловаться и поехал да перстень обратно привезти. Начудил он с ним. Да там, сказывали, тут же и женился. Больше уже никогда сюда не приезжал. Ну а барин за перстнем не явился, так что о нём скоро и забыли, земли ведь и так поделили.
Старик помолчал, как-то уж очень тяжело вздохнул и медленно произнёс:
– Я ему тогда про клад ничего не сказал… И хорошо сделал… Ты это потом поймёшь, брат ты мой.
Старик снова вздохнул.
– А перстень-то, похоже, счастья никому не принёс: ни турку, ни барину, ни ювелиру – никому…
И опять наступила гнетущая тишина. Теперь уже я слышал биение собственного сердца – оно бешено колотилось. С такой же скоростью неслись путаные мысли. И я сказал первое, что подвернулось на язык:
– Что же всё-таки ты сам, Владимир Кузьмич, не достал клад?
Старик помедлил, огладил бороду…
– Думаешь, испугался? И такое есть, только, ежели всё себе брать, что же останется? Сейчас там ребятишки, песни у костра, а развороти всё? Ничего не будет! Ничего! Одни окопы!
– Ну, зачем же только для себя? – неуместно перебил я.
– А на этот вопрос каждый сам должен найти ответ, – и старик… заулыбался!
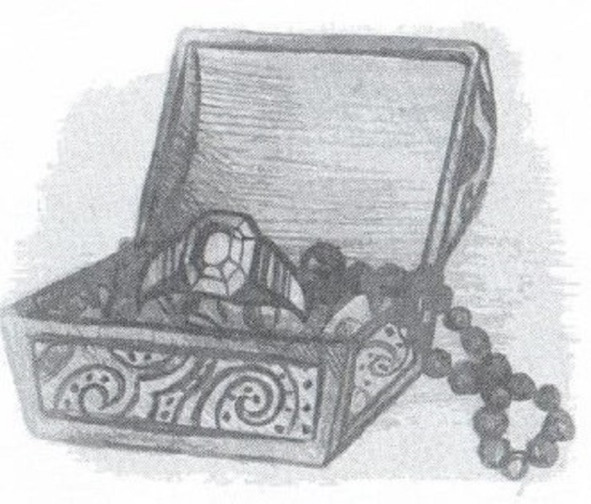
Глава 2. Перламутровый ларец
1
Проводить Владимира Кузьмича в последний путь пришли и из соседних деревень, и больше, чем я мог предположить.
Тот день выдался пасмурным. С раннего утра небо заволокло плотными серыми тучами. Время от времени накрапывал мелкий, по-осеннему мелкий дождь.
Траурная процессия больше из мужчин спускалась через лес по крутой извилистой тропинке к реке. Гроб – «колода», – обтянутый черным ситцем, несли на белых простынях, более чем печальный – отталкивающий контраст. Я шёл последним с охапкой последних пионов и будто загипнотизированный смотрел на скорбную ношу. Гроб то резко дёргался, то жутко наклонялся, казалось, покойник шевелится и вот-вот привстанет и откроет глаза. Крышку впереди несли ненамного лучше. Каким же долгим был спуск! Наконец внизу открылась река с пологим берегом, ещё немного – и испытания закончатся, однако они только начинались. У подвесного моста пришлось остановиться. Он был таким узким, что пронести усопшего, как его несли раньше, было невозможно. К тому же, как нарочно, поднялся сильный ветер, по низкому небу понеслись клочья темно-серых туч, начался дождь. Гроб поставили на землю, забили крышку и обвязали простынями. Затем самые рослые мужики подняли его над головой, и мы продолжили путь. Это было ужасно! Мост под ногами начал ходить вниз-вверх, раскачиваться из стороны в сторону, в такт ему раскачивался огромный чёрный ящик, казалось, он вот-вот вылетит в воду вместе с несущими его людьми. На скользких досках удержаться было трудно, и на середине моста носильщиков буквально швырнуло на стальные тросы ограждения, женщины закричали, что напугало ещё больше, но ношу удержали. Преодолев переправу, его снова опустили на землю, развязали простыни и медленно понесли дальше. Чувствовалось, все устали… Дождь скоро кончился, ветер стих. У могилы его в третий раз опустили, теперь уже на свежевырытую землю, и открыли для последнего прощания. На мгновение выглянуло солнце – что удивило – и тут же растворилось в мрачном небе, оставив бледное пятно. Прощание было кратким: женщины всплакнули, кто-то попросил прощения. Установили крышку и стали её заколачивать. Рослый, плохо выбритый мужчина в разорванной до плеча мокрой рубахе, большим молотком с профессиональной лёгкостью вбивал длинные гвозди. Его рука была в крови, видимо, поранился на мосту – жуткое зрелище! Затем гроб опустили в могилу; каждый бросил по горсти глинистой земли, и его закопали, насыпав продолговатый холм. Воткнули табличку, черенком лопаты на могиле выдавили православный крест, положили скромные цветы и молча пошли прочь с пустынного кладбища. Прошли по мосту, теперь он раскачивался гораздо меньше, прошли по угрюмому берегу и поднялись по скользкой лесной тропинке, мужчины впереди, следом женщины, помогая друг другу.
У калитки Владимира Кузьмича о чём-то громко судачили две старушки, вокруг них кругами бегала маленькая девочка; из трубы его дома вился лёгкий дымок; в окне промелькнуло женское лицо… Такая обыденность только усугубила и без того мрачное настроение, и идти в дом мне совсем не хотелось. На углу крыльца стояла бочка с водой, мужики ополоснули в ней руки и направились к столу, «накрытому» прямо во дворе. Это несколько успокоило, и я последовал за ними.
Стол из сеней был установлен почти вплотную к низкому, настежь распахнутому окну комнаты. На нём стояли щербатые, разные по размеру тарелки, рядом алюминиевые вилки с окрашенными в синий цвет ручками, стопки, стаканы, посередине блюдо с несколькими крупно нарезанными селёдками, засыпанными зелёным луком, большая тарелка с колбасой и поменьше с салом и бутылки с водкой. На широком подоконнике гора черного хлеба, чугунок с картошкой в мундире, тарелка с медом. Сели на слишком высокие, наспех сооружённые скамейки. Через окно передали кутью и блины, мужики засуетились, послышалась команда:

