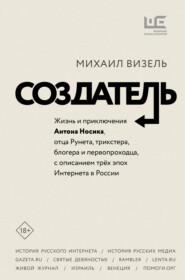скачать книгу бесплатно
Хрен я угадал, как показало беглое знакомство несколько лет назад со сборником русского школьного фольклора, где обнаружилось несколько «садистских частушек» моего детского сочинения.
Сегодня вдруг выяснилось, что в Интернете дожили до наших дней и другие образцы моего детского творчества, типа английских частушек (http://www.livejournal.com/~asnat/417261.html). Углублённый вебсёрч выявил ещё десяток-другой моих детских сочинений (например, лимериков), попавших на веб непонятным способом. К счастью, никакой любовной или гражданской лирики там не оказалось. Уфф.[46 - https://dolboeb.livejournal.com/455628.html.]
Под «английской частушкой» подразумевается вот что:
У май лавера в мозгу
нот а сингл извилины —
джаст э хи впадёт в тоску,
все хенды попилены[47 - https://asnat.livejournal.com/417261.html?thread=1673965#t1673965.].
А под лимериками, например, такое:
Старый поп из деревни Сушнёво
Заковал свои муди в оковы
И воскликнул: Господь!
Я смирил свою плоть!
Но душе моей – тоже хуёво.
Я привожу именно этот лимерик из доброй полусотни похожих игривых стишков[48 - http://www.screen.ru/vadvad/Yes/tanki.htm.], потому что именно его первую строку сам Носик вбил в поисковый запрос, то есть признал его авторство. Всё, что мы с древнейших времён знаем как «фольклор», имеет конкретного автора, и автор этот очевидно незауряден. Но – как пишет сам Антон – «у меня примерно к третьему курсу мединститута кончились все эти амбиции».
Амбиции кончились, но по-прежнему Носик охотно откликался на разные литературные игры. В частности, проходившие в «Гусарском клубе»[49 - «Гусарский клуб имени поручика Ржевского»: http://www.kulichki.com/gusary.] – одном из первых русских сетевых комьюнити (создан в 1995 году). Марина Пустильник, познакомившаяся с Антоном как раз там, сидя со мной в кафе на Тверской в 2018 году, не может вспоминать о нём без улыбки:
Это был творческий клуб по интересам, где собирались недавно уехавшие в Израиль, а также молодые аспиранты, которые учились в Штатах. Каждый брал себе псевдоним, начинал со звания корнета, а дальше за участие и победу в литературных конкурсах росли звания. Такая литературная игра. Насколько я помню, Антон тоже писал стихи, и вообще был как-то активен.
С другой стороны, у клуба была составляющая в реальной жизни, т. е. они все встречались кто где.
У них был IRC-канал, где я и тусовалась. Это было очень весело. Я тогда заканчивала учёбу [в CША], и все ночи проводила на этом канале, вместо того, чтобы писать диплом. Конкурсы, помню, все были очень остроумные, творческие, рядом с ними я чувствовала себя недостаточно креативной.
Достаточно заглянуть в доступные сейчас «архивы Гусарского клуба», чтобы убедиться: конкурсы и впрямь были остроумные, но старинное словечко «неудобочитаемые» к большинству «гусарских» шуток и стишков относится в полной мере. Но само общение «молодых аспирантов» и экспатов было, возможно, важнее самих стихов.
Необходимо отметить и глубокое понимание чужих «настоящих» стихов. Примером чему может служить произведённый Носиком в феврале 2010 года в ЖЖ-комьюнити mgendelev разбор стихотворения «Элегия. Памяти сословия» Михаила Генделева – ставшего в Израиле близким другом Антону и центром притяжения для молодых образованных репатриантов. Здесь Носик отказывается от специфической лексики и излагает свои мысли языком почти академическим:
Это тип поэта-пророка, который озвучивает не свою обособленную от мира правду, а некие коллективные установки, которые читатель либо приглашается разделить, либо он их уже разделяет, а поэт их просто облёк в совершенную ритмическую форму, в коллективную молитву и догмат веры.[50 - https://mgendelev.livejournal.com/2946.html.]
Если прочитать целиком эту пространную, на 9 тыс. знаков, то есть два разворота толстого литературного журнала, запись, то можно обратить внимание на несколько обстоятельств. На указанное в посте местонахождение: «гостиница “Жемчужина”, Сочи, Краснодарский край» (выдалась свободная минута на курорте, сел и написал). И на две характерные отсылки: к социальной сети MoiKrug, пытавшейся тогда занять место русского LinkedIn, и к Гребенщикову – без которого разговор о современной русской поэзии для Носика оказался невозможен.
Единственное относительно «серьёзное» стихотворение Антона Носика в публичном доступе сейчас можно найти благодаря всё тому же Павлу Пепперштейну, который вовлекал друга в концептуальное искусство – в созданную им в конце 1987 года группу «Инспекция “Медицинская герменевтика”».
Полное название «Инспекция “Медицинская герменевтика”» в достаточной степени выражает предмет наших интересов и занятий. Речь шла об инспекции всего. Очень философическая позиция. «Инспекция всего» предполагает нахождение в некой умозрительной отстранённости.
В иудео-христианской традиции первым актом инспекции можно считать 7-й день творения, когда Господь обозрел созданный мир и сказал: «Всё хорошо весьма». Т. е. это первая инспекционная запись в истории человечества, во всяком случае западного.
«Медгерменевтика» – это истолкование текстов, интерпретация текстов. Речь шла об использовании аппаратов интерпретации в терапевтических целях. При этом нам было очень важно, что среди нас два профессиональных медика (Антон и Герман Зеленин), и большое значение мы придавали тому, что один является урологом, а второй – гинекологом. Были представлены как бы ин и янь. Основные гендерные принципы, принципы бытия, дуальность. Было важно, что они врачи.
Антон был свидетелем зарождения группы «Медгерменевтика», и он был сразу назначен младшим инспектором герменевтики. Он очень ответственно отнёсся к этому, и сразу же стал принимать активное участие в работе группы.
Примерно через год мы занялись созданием книг, которые по нашей идее должны были составить пустотный канон герменевтики. Нас волновала тема пустотности и поиски канона, вернее, разработка канона. Была задумана многотомная структура и создано 12 томов пустотного канона, два первых тома были опубликованы.
Прервём рассказ о московском младоконцептуализме, чтобы заметить, что «тема пустотности» не может не вызывать у читателя, чья молодость пришлась на девяностые, ассоциации с романом Пелевина «Чапаев и Пустота»: ведь её главный герой, Пётр Пустота, тоже был маниакально озабочен «философскими аспектами пустоты». Пепперштейн в нашем разговоре согласился, что совпадение это, вероятно, не случайно:
Пелевин – человек-радар. Он всё вылавливает из инфосреды. Безусловно, он слышал и о «Медгерменевтике», и о школе московского концептуализма в целом, для которой тема пустоты всегда была центральной, принципиальной.
–?Но лично он тогда с вами не общался?
В то время – нет. Я знаком с Пелевиным и общался с ним, но совершенно в другой период, в нулевых годах. Я думаю, что и Антон с ним познакомился в этот период, в нулевых годах. А тогда [в конце восьмидесятых] Пелевина никто не знал.
Это кажется вполне естественным, – но сам Носик настаивал на обратном. Когда в сентябре 2014 года вышел роман «Любовь к трём цукербринам», в котором Носик фигурирует собственной персоной, да ещё и с «женой» – Долбой, я поинтересовался у Антона, спрашивал ли Пелевин у него в какой-либо форме разрешения на использование имени? На что получил ответ:
Со мной никто ни секунды не связывался, о том, что я там фигурирую, узнал от тебя, так что если располагаешь текстом – буду признателен.
Как ты догадываешься, единственный вариант Пелевину пострадать от несогласования со мной «моего» персонажа – это иск от меня о защите чести и достоинства. Пелевину даже не надо посылать ко мне юристов, чтобы понимать невозможность такого иска, это goes without saying.
На мой же вопрос о личном знакомстве с Пелевиным Антон ответил так:
Мы были шапочно знакомы в Коктебеле восьмидесятых, но после моего приезда из Израиля поводов для личного общения никогда не возникало.
Пепперштейн, когда я рассказал ему об этом, возразил категорически:
Антон явно приврал, если он так сказал. Потому что, конечно, Пелевин ни в каких Коктебелях никогда не был.
Пелевин, как обычно, сохранил фигуру молчания, не ответив на посланный через агентов вопрос, так что подробности этого «шапочного знакомства» остаются загадкой – но, возможно, они всплывут в каком-нибудь следующем романе, как всплыло в 2017 году, уже после смерти Носика, хлёсткое словечко iFuck, проскочившее в его ЖЖ[51 - https://dolboeb.livejournal.com/339552.html.] в июле 2003 года.
Но вернёмся к нашим младоконцептуалистам.
4-м томом «Медицинской герменевтики» был том «Младший инспектор», который состоял из текстов младших инспекторов. И для этого тома Антон написал большой, значительный, важный текст, посвящённый теме, которая профессионально его впоследствии заинтересует – компьютеры. Этот текст, конечно, будет сюрпризом для тех, кто его знает в качестве апологета сетевых коммуникаций, потому что он написан совершенно в другом, научном стиле, совершенно не в журналистском духе, посвящён анализу психологических и психиатрических расстройств, которые возникают у человека в отношениях с компьютером. Очень, надо сказать, интересно, потому что текст написан ещё тогда, когда это не стало таким шквальным эпидемическим явлением, всё-таки текст восьмидесятых годов.
В отличие от «стихов Пушкина», о которых автор кокетливо заметил ямбической строкой «стихи мои не сохранились», «стихи младшего инспектора», по счастью, сохранились:
Песня Дибаггера
Но не спится, куда ты ни капай
Свой туманный аптечный состав.
Кто-то мятый нездешнею лапой
Попадает в мой левый рукав,
Кто-то целится глазом под вымя.
Спотыкаясь во тьме ледяной…
Ты вчера не гуляла с другими —
Исключительно только со мной!
Ты вчера не бродила по скалам
С этим гнусным ежовым моржом,
И в больницу ко мне ты таскала
Исключительно кислый баржом.
А сегодня – взгляни, от предела
Я решительно стал недалёк,
Я хочу твоё сладкое тело
Положить на уютный пенёк…
Что же с нами, любимая, будет,
Если встречи, глядишь, позади,
И уже бессердечные люди
Пишут «Вася» у нас на груди?
Мне не радостны красные флаги.
Первомайский не сладок парад —
Я хочу твоей ласковой влаги,
Да её уже нет, говорят…
Извини меня, милая, пла?чу
И плачу? дорогою ценой —
Мне сегодня не выдали сдачу
На единственный мой четвертной.
И теперь я за чашечкой кофе
Погибаю в заштатной пивной —
Где, любимая, тонкий твой профиль…
Отчего ты теперь не со мной?
Здесь хочется отметить сразу несколько обстоятельств.
Во-первых, эти стихи выразительны сами по себе.
Во-вторых, они, в соответствии с приговской концепцией «подставного автора», написаны от имени дибаггера – т. е. отладчика компьютерных программ (новаторское на тот период занятие!), человека, явно менее искушённого в изящной словесности (и даже менее грамотного, судя по написанию слова «боржоми»), чем сам автор, – и при этом несравненно более сентиментального.
И самое главное – они опубликованы не сами по себе, а в качестве зачина для восьмистраничной статьи под названием «Компьютер как первопричина психических расстройств», датированной апрелем-маем 1989 года и доступной сейчас не в мифическом «четвёртом томе 12-томного пустотного канона», а во вполне реальном (хотя и довольно экзотическом) журнале «Пастор»[52 - http://www.conceptualism-moscow.org/page?id=438.] Вадима Захарова (№ 7 за 1999 год).
Впрочем, от младоконцептуализма Носик отошёл довольно быстро. И Пепперштейн прекрасно понимает, почему:
Несмотря на участие в «Медгерменевтике», мир искусства его не очень привлекал и манил – кажется, из-за атмосферы игрушечности и игривости, которая присуща всегда искусству и художникам.
Для всех нас его решение пойти в Мединститут было полной неожиданностью – и наверняка эта неожиданность тоже была частью плана Антона, поскольку он очень любил удивлять окружающих и выкидывать всякие фортеля, но, я думаю, основным побудительным мотивом было очень ярко присутствующее у него желание стать поскорее взрослым[53 - Сравним с другим постоянным рефреном воспоминаний о молодом Носике – его мальчишеский вид. Например, у Владимира Мака о Коктебеле 87-го года: «Мы идём [с женой] по набережной, и она вспоминает, как я остановился с каким-то школьником, и мы с ним беседуем, и она говорит: «Что это за школьник?» Я говорю: «Этот школьник, между прочим, кончает Мединститут скоро».] и заниматься взрослым нешуточным делом.
По всей видимости, он был бы ужасным врачом. Никаких природных талантов к этому не было, хотя к учёбе он очень старательно относился.[54 - И вполне успешно скрывал свою нерасположенность к медицине от сокурсников: «У нас не [было] принято спрашивать: “Чё ты пошёл вдруг в медицинский?” Это могли спросить у глубоко неуспевающего человека, но Антон учился нормально, поэтому вопроса такого не возникало», – рассказывал мне Арсен Ревазов.] Но более неподходящего человека, чтобы работать врачом, трудно было себе представить. Он очень страдал, его тошнило от препарирования трупов, у него были проблемы с едой. Рассказывал про это [прохождение практики в больнице во время учёбы] какие-то чудовищные истории, волосы дыбом стояли.
Анна Герасимова приводит одну из таких историй:
– Сижу я на рабе, пью чай. Вдруг слышу на лестнице: «Нет! Нет!». Что такое? Выхожу. Стоит наш главврач, а у него в руках банка с бульончиком.
– Вот, – говорит, – мама сыну бульончик принесла.
– Это которому 16 лет не было?
– Ну да.
– Ну и что?
– Но мёртвым не нужен бульончик!
Заметим, что «неожиданность» выбора медицинского института характеризует скорее герметичность взгляда Пепперштейна – потому что тот же Магарик, совсем не близкий друг, был прекрасно осведомлён, что школьник Антон работал санитаром, нарабатывая необходимый для поступления стаж. Виктория Мочалова подтвердила мне, что у них были многочисленные разговоры на эту тему:
Я была категорически против, т. к. ясно видела, что никаких данных, непременных для врачебной профессии, у него нет. Он был законченный гуманитарий, писал тексты с 6 лет (отец подарил ему пишущую машинку), легко учил языки. <…> Врачебное искусство требует иного. Но он упорствовал. Время было советское, и он считал, что гуманитарные науки скомпрометированы, писательство отца его тоже не привлекало – он насмотрелся в детстве на публику в писательских домах творчества и иронически мне цитировал их реплики, яростно вопрошая: «Ты этого хочешь?!» А профессия врача – чистое дело: вот больной – вот врач, при любом режиме. Возможно, элемент эпатажа и присутствовал, но рационализировал он всё очень чётко, так что это был такой расчёт. Который оказался неверным – он ни одного дня после института не работал врачом, но всегда занимался писанием тех или иных текстов.
Рационализация действительно была очень чёткая:
…мне в 16 лет было очень интересно и клёво жить. Даже если немалая часть этой самой жизни проходила в очередях за туалетной бумагой, которую отпускали по 2 рулона в одни руки, я писал стихи, был влюблён, уклонялся от вступления в Комсомол, по ночам перепечатывал тамиздатовские сборники Бродского и отчаянно портил девок. Впереди маячили тюрьма и Афган (таков был в ту пору небогатый выбор недовольных режимом), так что я первый раз в жизни объяснил своей маме, что её планы на мою будущность (читай: мечты про филфак МГУ) придётся похерить: мне нужна специальность, по которой я мог бы трудиться и в армии, и в концентрационном лагере, и эта специальность – врач, а не филолог.[55 - http://dolboeb.livejournal.com/2683584.html.]
С аргументами Антона сложно спорить – его позиция была взвешенной и хорошо продуманной. Тем не менее – избежав и Афгана, и лагеря, – со временем филолог вытеснил врача.
Согласимся и с Викторией Валентиновной: пошлость выспренных разговоров второстепенных литераторов в домах творчества может отвратить и не такого тонкого человека. Но ведь у Антона были перед глазами примеры писателей отнюдь не второстепенных – те же упомянутые Пепперштейном Юз Алешковский и Эдуард Успенский. Не говоря уж о Пушкине, под которого Антон так удачно закосил в школе, Булгакове, которого он внимательно читал, или Бродском, которого усердно перепечатывал[56 - «Очень хорошо помню, что родительский “Континенталь”, на котором я в 1980 году перепечатывал “Часть речи” и “Конец прекрасной эпохи”, брал при известном усилии пять копий, а не 4, как “Эрика” у Галича…» (ЖЖ dolboeb, запись от 9 апреля 2015).] со школьных лет.
Вспомним ещё раз приводимые разными людьми характеристики Антона: «лёгкость необыкновенная», «придумать идею, найти под неё инвестора, зажечь его, зажечь всех и по-быстрому свалить»… Все, с кем бы я ни беседовал о Носике, разным образом высказывали одну мысль: Антон не терпел рутины, и когда очередной проект оказывался запущен, он бросал его и нёсся дальше. Повзрослев, он сам прекрасно про себя это понимал и тоже повторял постоянно. Возможно, классический «писательский» путь был невозможен в его случае как раз поэтому – Антон не смог бы писать один роман за другим, как Пелевин и Водолазкин.
Конспирологический роман «Операция “Кеннеди”» Носик и его друг Аркан Карив написали, по свидетельству их издателя Марка Галесника, за два месяца – и опыт столь длительного (по его меркам) погружения в литературу оказался единственным в творческой биографии Антона Носика.
Хотя позднее, в апреле 2003 года, во время расцвета русского ЖЖ, он попытался рекрутировать через него соавторов. Для чего, мысля системно, создал ЖЖ-шное комьюнити soavtor и написал в него манифест, в котором, в частности, провозглашал: «настоящая амбиция любого гуманитария – написать книгу»[57 - https://soavtor.livejournal.com/326.html.] – и предлагал использовать это комьюнити для поисков взаимодополняющих друг друга соавторов с разным «функционалом»: один придумывает идею, другой её воплощает, третий отделывает и т. д.
Антон искал соавтора и себе, обозначив завязку в посте с говорящим названием «Давайте напишем детектив» следующим образом:
В офисе небольшой турфирмы находят её директора, застреленного из охотничьего ружья. При прослушивании автоответчика обнаруживаются десятки звонков по объявлению про «золотые Азоры», и один звонок в два часа ночи с угрозами – от Антиспаммерской лиги.
Следователь Гоплин[58 - Обратим внимание на очередную игровую фамилию, намекающую на Гоблина, то есть мастера травестийного перевода Дмитрия Пучкова, который действительно ушёл в 1998 году с должности старшего оперуполномоченного уголовного розыска.] начинает разбираться со спаммерскими рассылками, которые отправлял потерпевший. Выясняется, что турфирма бомбардировала население РУНЕТа своими предложениями отдыха на «золотых Азорах» не реже двух раз в неделю. Выясняется также, что по вине этой фирмы примерно 20 человек за последний год получили запрет на въезд в страны Шенгенской зоны сроком на 5 лет.
Итого, две версии: некая подпольная организация интернет-активистов «Антиспаммерская лига» (реально заявлявшая о себе обсуждениями на некоем форуме), либо пострадавшие от недобросовестного оформления виз.
Убийца, очевидно, кто-то третий.
Ваши предложения?[59 - https://dolboeb.livejournal.com/296327.html.]
Позднее он даже проводил собеседования с «соискателями в литературные негры и мулаты» (в том числе – со мной). Но среди читателей носиковского ЖЖ тогда не нашлось потенциальных писателей, способных вдохновиться таким сюжетом, и дело не пошло, – а сам Антон писать, заниматься «тёмной нелюдимой барщиной в рудниках труда», как вычурно выразился мученик писательства Стефан Цвейг, – не собирался.
«Моцартианское начало» – это не только дар, но и ограничение. У самого Моцарта оно преодолевалось жесточайшей выучкой в детские годы, проведённые под рукой строгого отца. Но детство Антона прошло в иных условиях: ни Борис Носик, ни Илья Кабаков не смогли и не захотели быть Леопольдом Моцартом. А серьёзное творчество требует не только вдохновения, но и каменной усидчивости, и воловьей работоспособности.
Носик мог в молодости по 17 часов не вставать от компьютера и прикорнуть щекой на клавиатуре, уткнувшись кипой в монитор (что тоже стало частью его мифа), и годами выдавать «качественный продукт» каждый день – потому что ему было интересно. Но оказался неспособен день за днём кропотливо строить большое здание традиционного романа.
Более того: в августе 2008 года, уже находясь на «временном заслуженном отдыхе», располагая и временем, и местом, он объявил, находясь в любезной его сердцу Венеции, что наконец-то засядет за книгу:
К октябрю мне нужно сдать в издательство рукопись книги, написание которой никак уже больше нельзя откладывать… По счастью, в понедельник после заката на Венецию обрушилась совершенно кинематографическая гроза, с ливнем, громом и молниями в полнеба, очень располагающая к тихому домашнему сочинительству.[60 - https://dolboeb.livejournal.com/2556644.html.]
Правда, как уточняет он в комментариях к этому посту, речь идёт не о художественной, а о деловой литературе: «про подъёмные деньги». Но зато «пока в издательском плане их три стоит». Но увы – не было написано ни одной. Возможно, Антон действительно думал в тот момент какое-то время о писательстве как о следующем жизненном этапе, но, вернувшись в Москву, снова с головой ушёл в построение сразу двух новых – и не просто «новых», а новаторских, – интернет-проектов, и до традиционной книги у него руки так и не дошли.
Вторая попытка засесть за книгу, на сей раз о стартапах – по мотивам проводимых семинаров, была предпринята в октябре 2013 года. «Благо, – сообщил сам Антон, – договор уже подписан, и даже аванс перечислен».[61 - https://dolboeb.livejournal.com/2577070.html.] Но и на сей раз неожиданный форс-мажор – разгон «Lenta.Ru» и бурный запуск целого куста новых проектов – смешал литературные планы.
При этом, парадоксальным образом, Антон успел подержать в руках книгу со своим именем и фотографией на обложке: в феврале 2017 года он с изумлением узнал, что является «автором» 200-страничной книги, выпущенной под его именем в издательстве «Алгоритм» и снабжённой броским названием «Изгои. За что нас не любит режим». Книга, по обыкновению этого издательства, была просто надёргана из ЖЖ dolboeb – в основном по тегу «282», не преминул уточнить сам Носик.[62 - https://dolboeb.livejournal.com/3117966.html.] Он был возмущён таким откровенным пиратством и собирался судиться – но уже не успел.
«Антон Носик написал больше 50 000 страниц, но ни одной полной книги[63 - Первая полноценная книга Антона – внушительный сборник «Лытдыбр», составленный Еленой Калло и Викторией Мочаловой из его дневниковых записей, публицистики и прозы, – увидела свет уже после смерти автора. Оказавшиеся в одном пространстве книги, разбитые по темам (детство, семья, Израиль, рождение русского интернета, Венеция, протесты и политика, благотворительность, русские медиа), десятки и сотни разрозненных текстов Носика превращаются в своего рода автобиографию и настоящий opus magnum.] после него не осталось»[64 - https://meduza.io/feature/2017/07/09/razve-mozhet-umeret-dolboeb-kotoryy-uspevaet-vezde-i-srazu.Иностранное СМИ, выполняющее функции иноагента.], – с грустью констатировал в первые же трагические дни июля 2017 года лучше всех его знавший Демьян Кудрявцев.