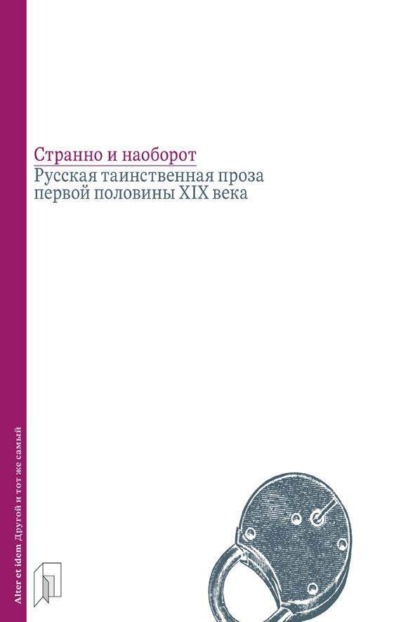
Полная версия:
Странно и наоборот. Русская таинственная проза первой половины XIX века
– Зденка, – сказал я, – ты перенесла много горя, мне говорили; побеседуй со мной, тебе легче будет!
– О, друг мой, не верь всему, что́ тебе про нас говорят, но уезжай, уезжай скорее, не то погибнешь, безвозвратно погибнешь!..
– Но, Зденка, что́ же угрожает мне? Неужели ты мне не дашь и часу, одного часу, поговорить с тобой?
Зденка вздрогнула и вдруг словно вся переменилась.
– Хорошо, – сказала она, – час, один час, не правда ли, как тогда, когда я пела песню о старом крале и ты пришел ко мне в комнату… Ты этого хочешь? Хорошо, даю тебе этот час… Ах, нет, нет, – вскликнула она вдруг опять, спохватясь, – уходи, уходи!.. Беги скорее, уезжай, говорю тебе… Беги, пока еще можешь.
Дикая энергия одушевляла ее черты.
Мне непонятна была причина, заставлявшая ее говорить так, но она была так хороша, что я решил остаться помимо ее воли. Уступив, наконец, моим просьбам, она села подле меня, заговорила о прошлом и призналась, что полюбила меня с первого взгляда… И по мере того как говорила она, мне все яснее сказывалась какая-то странная перемена, совершившаяся в ней. Это была уже не та, знакомая мне прежде, сдержанная, застенчивая, вечно краснеющая девушка. В движениях ее, в блеске глаз было что-то нескромное, не девически смелое и вызывающее…
«Неужели возможно, – говорил я сам себе, – что Зденка не была той чистой и невинной девушкой, какой казалась она мне полгода тому назад? Неужели она надевала только личину, из боязни брата? Неужели меня одурачила ее заемная скромность? Но тогда зачем же заставлять было меня уехать? Или это какое-нибудь утонченное кокетство? А я-то воображал, что знаю ее!.. А впрочем, не все ли равно! Если Зденка не Диана, как я воображал, так все же она может быть сравнена с другой богиней, не менее прелестной, а я со своей стороны предпочитаю, конечно, участь Адониса участи Актеона».
Если эта классическая фраза, сказанная мной самому себе, кажется вам теперь не к месту, mesdames, то потрудитесь вспомнить, что я имею удовольствие рассказывать вам случай, происходивший в 1769 году. Мифология была тогда в духе времени, а я не имел претензии опережать свой век. С тех пор многое изменилось, и еще очень недавно революция, уничтожив воспоминания язычества в одно время с христианской религией, возвела на их место новое божество – Разум. Культ этого божества никогда не был моим, когда я находился в женском обществе, а в то время, о котором я говорю, я тем менее был расположен приносить ему жертвы. Я без стеснения предался чувству, которое влекло меня к Зденке, и радостно отвечал на ее заигрывания… В сладостном забытье прошло несколько времени, в течение коего я, забавляясь между прочим примериванием на Зденке то одной, то другой из найденных мной на ее столе драгоценных вещиц, вздумал надеть ей на шею эмалевый крестик, о котором я имел уже случай упомянуть. Едва поднял я его над нею, Зденка отскочила, вздрогнув.
– Довольно дурачества, милый, – сказала она, – брось эти побрякушки и поговорим о тебе и о твоих намерениях!
Смущение Зденки заставило меня невольно задуматься. Разглядывая ее пристальнее, я заметил, что у нее на шее не было, как прежде, тех образков и ладонок, которые сербы носят обыкновенно с самого раннего детства и до смерти.
– Зденка, – сказал я, – где же все образки, которые носила ты на шее?
– Потеряла, – отвечала она нетерпеливо и тотчас же переменила разговор.
Во мне заныло вдруг какое-то смутное предчувствие недоброго. Я собрался ехать. Зденка остановила меня.
– Как, – сказала она, – ты просил у меня час времени и уезжаешь, едва проведя со мной несколько минут?
– Зденка, – ответил я, – ты была права, уговаривая меня уехать; я слышу шум и боюсь, чтобы нас не увидали с тобой!
– Будь покоен, друг мой, все спит кругом, и только кузнечик в траве да стрекоза в воздухе могут услышать, что́ я хочу сказать тебе.
– Нет, нет, Зденка, я должен ехать…
– Постой, постой, – заговорила Зденка, – я люблю тебя больше души своей, больше своего спасения; ты сказал мне, что жизнь твоя и кровь – мои…
– Но брат твой, Зденка… я предчувствую, он придет!
– Успокойся, сердце мое, брат мой спит, убаюканный ветром, что́ шелестит в деревьях; глубок его сон, длинна эта ночь, и я у тебя прошу только часа!
Говоря это, Зденка была так хороша, что безотчетный страх, волновавший меня, стал уступать желанию остаться с ней. Какая-то смесь боязни и невыразимой неги наполняла все существо мое. По мере того как воля моя ослабевала, Зденка делалась все нежнее, так что я решился уступить, но быть однако настороже. Но, увы! как я уже сказал, я бывал всегда благоразумен только наполовину, и когда Зденка, заметив мою сдержанность, предложила мне согреться от ночного холода несколькими глотками доброго вина, приобретенного ею, говорила она, у отшельника, я согласился с послушностью, заставившей ее улыбнуться. Вино произвело свое действие. На втором стакане впечатление, произведенное на меня эпизодом с крестиком и образками, совершенно изгладилось. Зденка в своем небрежном наряде, с полурасплетенными белокурыми волосами, в блестевших при свете луны запястьях [Слово «запястье» употреблено здесь в старом, уже исчезнувшем значении: «браслет, обручье», то есть украшение, носимое на запястье.], показалась мне неотразимо прекрасной. Я более не сдерживал себя и заключил ее в свои объятья…
Тогда, mesdames, произошло одно из тех таинственных указаний, объяснения коим я никогда найти не мог, но в которые опыт заставил меня наконец поверить, хотя до тех пор я далеко не был расположен допустить их.
Я так сильно обнял Зденку, что вследствие этого движения одна из оконечностей креста, виденного вами и надетого на меня перед отъездом моим из Парижа герцогиней де-Грамон, вонзилась мне в грудь. Боль, которую я испытал при этом, была точно луч света, озаривший меня внезапно. Я глянул на Зденку – и увидал, что над ее чертами, все еще прекрасными, витала смерть, что глаза ее ничего не видели и что улыбка ее была лишь судорогой агонии на лице мертвеца. В то же самое время я ощутил в комнате острый запах непритворенного склепа. Ужасная истина открылась мне во всем безобразии своем, и я слишком поздно припомнил предостережения отшельника. Я понял, в каком находился отчаянном положении, и почувствовал, что все зависело от моей смелости и присутствия духа. Я отвернулся от Зденки, чтобы не дать ей заметить того, что, вероятно, выражалось на лице моем. Взгляд мой невольно обратился к окну, и я увидал страшного Горшу, опиравшегося на окровавленный кол и смотревшего на меня взглядом гиены. В другом окне стоял Георгий, в эту минуту ужасно походивший на отца. Оба они, казалось, следили за каждым моим движением, и было ясно, что они бросятся на меня при малейшей попытке бежать. Я сделал поэтому вид, что не заметил их, и имел настолько силы воли, что продолжал все так же ласкать Зденку, будто ничего не случилось, но в то же время только и думал, как бы мне спастись. Я видел, что Горша и Георгий переглядываются со Зденкой и начинают терять терпение. И тут же во дворе послышались мне женский голос и плач детей, но такие ужасные, что их можно было скорее принять за вытье диких кошек.
«Пора убираться, – сказал я сам себе, – и чем скорее, тем лучше!»
И, обратясь к Зденке, я заговорил с ней настолько громко, чтобы страшные родственники ее могли слышать:
– Я устал, милая моя, мне бы хотелось лечь и поспать несколько часов, но надо прежде накормить мою лошадь. Прошу тебя, не уходи и подожди меня здесь.
Я приложил губы к ее похолодевшим и бледным устам и вышел. Лошадь свою нашел я всю в пене и рвущейся из-под навеса. Ржание, которым она встретила меня, обдало меня холодом, так как я боялся, как бы оно меня не выдало. Но вурдалаки, слышавшие, конечно, разговор мой со Зденкой, не трогались с места. Тогда я, удостоверясь, что ворота не заперты, быстро вскочил в седло и вонзил сразу шпоры в бока моего скакуна. Выскакав из ворот, я успел только заметить, что толпа, собравшаяся вокруг дома и стоявшая, прильнув лицами к стеклам, была весьма многочисленна. Полагаю, что мой внезапный выезд озадачил их, так как в первые минуты затем я в молчании ночи различал только однообразный топот несшегося подо мной коня.
Я уже готов был поздравить себя с благополучным концом этой истории, как вдруг услыхал за собой шум, подобный вою урагана в горах. Тысячи голосов стонали, ревели и точно спорили друг с другом. Потом вдруг все смолкло, и раздался как бы мерный гул и топот нескольких бегущих пехотинцев.
Я подгонял шпорами коня моего до крови. Жилы мои чуть не разрывались от пожиравшего меня лихорадочного огня, и, между тем как все усилия мои направлены были к тому, чтобы сохранить еще некоторое присутствие духа, я услыхал позади себя голос, взывавший ко мне:
– Погоди, погоди, милый! Я люблю тебя более души своей, более своего спасения! Постой, постой, твоя кровь – моя!
В то же время холодное дыхание коснулось моих ушей, и Зденка прыгнула на круп моей лошади.
– Сердце мое, душа моя! – говорила она мне. – Я только тебя вижу, только тебя хочу; я не властна над собой, я повинуюсь высшей власти; прости меня, милый, прости меня!..
И, обвив меня руками, она старалась опрокинуть меня и укусить за горло. Страшная борьба завязалась между нами. Долго защищался я с трудом, но наконец напряг все силы, схватил Зденку одной рукой за пояс, а другой за косы и, приподнявшись на стременах, швырнул ее наземь.
Тотчас затем силы оставили меня, и я впал в бред. Тысячи безумных и страшных образов преследовали меня, угрожая мне. Сначала Георгий и брат его Петр все бежали по краям дороги и старались перерезать мне путь. Им это не удавалось, и я радовался уже этому, когда, обернувшись, увидел старого Горшу, который, опираясь на свой кол, делал при помощи его неимоверные прыжки, подобно тирольцам, перекидывающимся через обрывы. Но и Горша остался позади. Тогда невестка его, волочившая за собой двоих детей, подкинула ему одного из них, которого он и поймал на острие кола. Орудуя им как пращой, он изо всех сил пустил ребенком в меня. Я избег удара, но детеныш со свирепой цепкостью бульдога так и вцепился в шею моей лошади, и мне еле-еле удалось оторвать и скинуть его. Горша кинул в меня другим ребенком, но этот свалился под копыта лошади, и она раздавила его… Не знаю, что́ было далее, но когда я очнулся – было уже светло и я лежал на краю дороги, а рядом со мной издыхала моя лошадь.
Так кончилось, mesdames, это мое любовное похождение, которое должно было, казалось бы, навсегда отбить у меня охоту искать новых. Из остающихся в живых бабушек ваших некоторые могли бы сообщить вам, насколько в действительности стал я с течением времени более благоразумным.
Как бы ни было, но я и теперь еще содрогаюсь при мысли, что, попадись я во власть моих врагов, – я бы в свою очередь стал вампиром; но Провидение не допустило до этого, и я, mesdames, не только не жажду вашей крови, но готов за вас и всю свою отдать до последней капли.
1839
Примечания
…князей Меттерниха и Гарденберга и графа Нессельроде. – Речь идет о знаменитом Венском конгрессе 1814–1815 годов – конференции, на которой вырабатывались договора, нацеленные на обустройство жизни Европы после французской революции 1789 года и наполеоновских войн. В конгрессе, проходившем под председательством князя Меттерниха, участвовали представители всех стран Европы (кроме Османской империи). Среди влиятельнейших фигур конгресса были сам князь Клеменс Венцель Лотар фон Меттерних-Виннебург-Бейльштейн (1773–1859) – австрийский дипломат из рода Меттернихов; канцлер Пруссии князь Карл Август фон Гарденберг (1750–1822) и граф Карл Васильевич Нессельроде (или Карл Роберт фон Нессельроде, 1780–1862) – русский государственный деятель немецкого происхождения, предпоследний канцлер Российской империи и министр иностранных дел Российской империи.
…я был страстно влюблен в хорошенькую герцогиню де-Грамон. – Во французском оригинале А.К. Толстого в написании этой фамилии, конечно, никакого дефиса нет: герцогиня именуется «de Gramont». Все написания имен собственных в рассказе даны именно так, как они обозначены в переводе с французского Болеслава Маркевича.
Аббат Августин Кольмэ в своем любопытном сочинении о привидениях приводит страшные тому примеры. – Имеется в виду Огюстен Кальме (Augustin Calmet), урожденный Антуан Кальме и известный под религиозным именем Дом Кальме (1672–1757), – аббат-бенедиктинец родом из Лотарингии. Занимался преимущественно экзегетическими, историческими и богословско-археологическими исследованиями. В данном случае речь идет о его книге «Трактат о явлениях духов и о вампирах или привидениях Венгрии, Моравии и проч.» («Trait sur les apparitions des esprits et sur les vampires ou les revenans de Hongrie, de Moravie, etc.», 1746).

Николая Васильевича Гоголя (1809–1852) столько раз называли «великим писателем» и «признанным классиком русской литературы», что повторять эти слова даже как-то неудобно. И тем не менее – действительно великий и действительно классик. Над романом «Гетьман» писатель работал, будучи совсем молодым человеком – в возрасте 21–23 лет. Роман ему чем-то не понравился, и Н.В. Гоголь его сжег (видимо, он не верил, что «рукописи не горят», поэтому поступил так не только с «Гетьманом»). Остались лишь две главы и несколько черновых набросков. Глава, названная Н.В. Гоголем «Кровавый бандурист», включена в этот сборник.
Николай Васильевич Гоголь
Кровавый бандурист
(глава из неоконченного романа «Гетьман»)
В 1543 году, в начале весны, ночью, тишина маленького городка Лукомья была смущена отрядом реестровых коронных войск. Ущербленный месяц, вырезываясь блестящим рогом своим сквозь беспрерывно обступавшие его тучи, на мгновение освещал дно провала, в котором лепился этот небольшой городок. К удивлению немногих жителей, успевших проснуться, отряд, которого одно уже появление служило предвестием буйства и грабительства, ехал с какой-то ужасающей тишиной. Заметно было, что всю силу напряженного внимания его останавливал тащившийся среди него пленник, в самом странном наряде, какой когда-либо налагало насилие на человека: он был весь с ног до головы увязан ружьями, вероятно, для сообщения неподвижности его телу. Пушечный лафет был укреплен на спине его. Конь едва ступал под ним. Несчастный пленник давно бы свалился, если бы толстый канат не прирастил его к седлу. Осветить бы месячному лучу хоть на минуту его лицо – и он бы, верно, блеснул в каплях кровавого пота, катившегося по щекам его! Но месяц не мог видеть его лица, потому что оно было заковано в железную решетку. Любопытные жители, с разинутыми ртами, иногда решались подступить поближе, но, увидя угрожающий кулак или саблю одного из провожатых, пятились и бежали в свои тщедушные домики, закутываясь покрепче в наброшенные на плеча татарские тулупы и продрагивая от свежести ночного воздуха.
Отряд минул город и приближался к уединенному монастырю. Это строение, составленное из двух совершенно противоположных частей, стояло почти в конце города, на косогорке. Нижняя половина церкви была каменная и, можно сказать, вся состояла из трещин, обожжена, закурена порохом, почерневшая, позеленевшая, покрытая крапивой, хмелем и дикими колокольчиками, носившая на себе всю летопись страны, терпевшей кровавые жатвы. Верх церкви, с теми изгибистыми деревянными пятью куполами, которые установила испорченная архитектура византийская, еще более изуродованная варваризмом подражателей, был весь деревянный. Новые доски, желтевшие между почернелыми старыми, придали ей пестроту и показывали, что еще не так давно она была починена богомольными прихожанами. Бледный луч серпорогого месяца, продравшись сквозь кудрявые яблони, укрывавшие ветвями в своей гуще часть здания, упал на низкие двери и на выдавшийся над ними вызубренный карниз, покрытый небольшими своевольно выросшими желтыми цветами, которые на тот раз блестели и казались огнями или золотой надписью на диком карнизе. Один из толпы, с неизмеримыми, когда-либо виданными усами, длиннее даже локтей рук его, которого, по замашкам и дерзкому повелительному взгляду, признать можно было начальником отряда, ударил дулом ружья в дверь. Дряхлые монастырские стены отозвались и, казалось, испустили умирающий голос, уныло потерявшийся в воздухе. После сего молчание снова заступило свое место. Брань на разных наречиях посыпалась из-под огромнейших усов начальника отряда:
– Терем-те-те [Терем-те-те (венг. teremtette) – междометие, означающее «фу, черт!», «черт возьми!».], поповство проклятое! Ато я знаю, чем вас разбудить!
Раздался пистолетный выстрел, пуля пробила ворота и шлепнулась в церковное окно, стекла которого с дребезгом посыпались во внутренность церкви. Это произвело смятение в кельях, которые примыкали к церкви; показались огни; связка ключей загремела; ворота со скрипом отворились, – и четыре монаха, предшествуемые игуменом, предстали бледные, с крестами в руках.
– Изыдите, нечистые! кромешники! – произнес едва слышным дрожащим голосом настоятель. – Во имя Отца и Сына и Святого духа, изыди, диавол!
– Але то еще и брешет, поганый, – прогремел начальник языком, которому ни один человек не мог бы дать имени: из таких разнородных стихий был он составлен. – То брешешь, лайдак [Лайдак (разг., бранн.) – бездельник; лентяй; плут; мерзавец.], же говоришь, что мы дьяволы; а то мы не дьяволы, мы – коронные.
– Что́ вы за люди? я не знаю вас! Зачем вы пришли смущать православную церковь?
– Я тебе, псяюха, порохом прочищу глаза! Давай нам ключи от монастырских погребов.
– На что вам ключи от наших погребов?
– Я, глупый поп, не буду с тобой говорить! А если ты хочешь, басамазенята [Непристойное венгерское ругательство.], поговори з моим конем!
– Принеси им, антихристам, ключи, брат Касьян! – простонал настоятель, оборотившись к одному монаху. – Только у меня нет вина! Как Бог свят, нет! Ни одной бочки, ни бочонка и ничего такого, что́ бы вам было нужно.
– А то мне какое дело! Ребята хотят пить. Я тебе говорю, если ты, глупый поп, сена, стойла и пшеницы не дашь лошадям, то я их в костел ваш поставлю и тебя сапогом до морды.
Настоятель, не говоря ни слова, возвел на них оловянные свои глаза, которые, казалось, давно уже не принадлежали миру сему, потому что не выражали никакой страсти, и встретился с злобно устремившимися на него глазами иезуита. Он отворотился от него и остановил их на странном пленнике с железным наличником. Вид этот, казалось, поразил почти бесчувственного ко всему, кроме церкви, старца.
– За что вы схватили этого человека? Господи, накажи их трехипостасной силой своей! Верно, опять какой-нибудь мученик за веру Христову!
Пленник испустил только слабое стенание.
Ключи были принесены, и при свете сонно горевшей светильни вся эта ватага подошла ко входу пещеры, находившейся за церковью. Как только опустились они под земляные безобразные своды, могильная сырость обдала всех. В молчании шел начальствовавший отрядом, и непостоянный огонь светильни, окруженный туманным кружком, бросал в лицо ему какое-то бледное привидение света, тогда как тень от бесконечных усов его подымалась вверх и двумя длинными полосами покрывала всех. Одни только грубо закругленные оконечности лица его были определительно тронуты светом и давали разглядеть глубоко бесчувственное выражение его, показывавшее, что все мягкое умерло и застыло в этой душе, что жизнь и смерть – трын-трава, что величайшее наслаждение – табак и водка, что блаженство там, где все дребезжит и валится от пьяной руки. Это было какое-то смешение пограничных наций: родом серб, буйно искоренивший из себя все человеческое в венгерских попойках и грабительствах, по костюму и несколько по языку поляк, по жадности к золоту жид, по расточительности его козак, по железному равнодушию дьявол. Во все время казался он спокоен; по временам только шумела между усами его обыкновенная брань, особенно когда неровный земляной пол, час от часу уходивший глубже вниз, заставлял его оступаться. Тщательно осматривал он находившиеся в земляных стенах норы, совершенно обсыпавшиеся, служившие когда-то кельями и единственными убежищами в той земле, где в редкий год не проходило по степям и полям разрушение, где никто не строил крепких строений и за́мков, зная, как непрочно их существование. Наконец показалась деревянная, заросшая мхом, зацветшая гнилью дверь, закиданная тяжелыми бревнами и каменьями. Перед ней остановился он и оглянул ее значительно снизу доверху.
– А ну! – сказал он, мигнувши бровью на дверь, и от его волосистой брови, казалось, пахнул ветер.
Несколько человек принялись и не без труда отваливали бревна. Дверь отворилась. Боже, какое ужасное обиталище открылось глазам! Присутствовавшие взглянули безмолвно друг на друга, прежде нежели осмелились войти туда. Есть что-то могильно-страшное во внутренности земли. Там царствует в оцепенелом величии смерть, распустившая свои костистые члены под всеми цветущими весями и городами, под всем веселящимся, живущим миром. Но если эта дышащая смертью внутренность земли населена еще живущими, теми адскими гномами, которых один вид уже наводит содрогание, тогда она еще ужаснее. Запах гнили пахнул так сильно, что сначала заняло у всех дух. Почти исполинского роста жаба остановилась, неподвижно выпучив свои страшные глаза на нарушителей ее уединения. Это была четырехугольная, без всякого другого выхода, пещера. Целые лоскутья паутины висели темными клоками с земляного свода, служившего потолком. Обсыпавшаяся со сводов земля лежала кучами на полу. На одной из них торчали человеческие кости; летавшие молниями ящерицы быстро мелькали по ним. Сова или летучая мышь были здесь красавицами.
– А чем не светлица? Светлица хорошая! – проревел предводитель. – Але тебе, псяюхе, тут добре будет спать. Сам ложись на ковалки [Ковалок (устар., диал.) – кусок, ломоть.], а под голову подмости ту жабу, али возьми ее за женку на ночь!
Один из коронных вздумал было засмеяться на это, но смех его так страшно-беззвучно отдался под сырыми сводами, что сам засмеявшийся испугался. Пленник, который стоял до того неподвижно, был столкнут на середину и слышал только, как захрипела за ним дверь и глухо застучали заваливаемые бревна. Свет пропал, и мрак поглотил пещеру.
Несчастный вздрогнул. Ему казалось, что крышка гроба захлопнулась над ним, и стук бревен, заваливших вход его, показался стуком заступа, когда страшная земля валится на последний признак существования человека и могильно-равнодушная толпа говорит, как сквозь сон: «Его нет уже, но он был». После первого ужаса он предался какому-то бессмысленному вниманию, бездушному существованию, которому предается человек, когда удар бывает так ужасен, что он даже не собирается с духом подумать о нем, но вместо того устремляет глаза на какую-нибудь безделицу и рассматривает ее. Тогда он принадлежит к другому миру и ничего не разделяет человеческого: видит без мыслей; чувствует, не чувствуя; странно живет. Прежде всего внимание его впилось в темноту. Все было на время забыто – и ужас ее, и мысль о погребении живого. Он всеми чувствами вселился в темноту. И тогда пред ним развернулся совершенно новый, странный мир: ему начали показываться во мраке светлые струи, – последнее воспоминание света! Эти струи принимали множество разных узоров и цветов. Совершенного мрака нет для глаза. Он всегда, как ни зажмурь его, рисует и представляет цветы, которые видел. Эти разноцветные узоры принимали или вид пестрой шали, или волнистого мрамора, или, наконец, тот вид, который поражает нас своей чудной необыкновенностью, когда рассматриваем в микроскоп часть крылышка или ножки насекомого. Иногда стройный переплет окна – которого – увы! не было в его темнице, проносился перед ним. Лазурь фантастически мелькала в черной его раме, потом изменялась в кофейную, потом исчезала совсем и обращалась в черную, усеянную или желтыми, или голубыми, или неопределенного цвета крапинами. Скоро весь этот мир начал исчезать: пленник чувствовал что-то другое. Сначала чувствование это было безотчетное; потом начало приобретать определительность. Он слышал на руке своей что-то холодное; пальцы его невольно дотронулись к чему-то склизкому. Мысль о жабе вдруг осенила его!.. Он вскрикнул и разом переселился в мир действительный. Мысли его окунулись вдруг во весь ужас существенности. К тому еще присоединились изнурение сил, ужасный спертый воздух: всё это повергло его в продолжительный обморок.
Между тем отряд коронных войск разместился в монастырских кельях, как дома, высылал монахов подчищать конюшни и пировал, радуясь, что, наконец, схватил того, кто был им нужен!
– Попался, псяюха! – говорил усастый предводитель. – Хотел бы я знать, чего они так быстры на ноги, собачьи дети? Пойдем, хлопцы, доведаемся, кто с ним был, лысый бес начхай ему в кашу!

