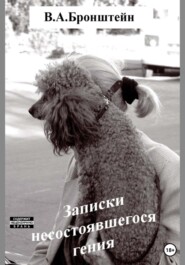 Полная версия
Полная версияЗаписки несостоявшегося гения
Интересно, в те послевоенные годы у главврача городской больницы не было служебного
автомобиля, и иметь свой персональный конный выезд было вполне престижно. А какой
автомобильный парк сегодня в любом медучреждении… Наверное, лечат лучше. Он жил
в доме №10, по улице Суворовской, принадлежащем его отцу, купцу 1-й гильдии, Зиновию Зильберштейну. Дом был большой, просторный, в нем умещался и ювелирный
магазин хозяина, и 7 или 8 больших жилых комнат.
После освобождения Херсона несколько комнат в его доме заняло Международное
общество Красного Креста и Красного Полумесяца, которое возглавляла моя бабушка, Млода Исааковна Эльзон. Доктор вернулся с фронта, вновь возглавил Тропинку, а на
бабушку за уплотнение не обижался, они даже стали друзьями. Иногда он заходил по
вечерам к бабушке, чаще – она брала меня и приходила пить чай к нему. Они вели по
вечерам долгие беседы, мне было скучно, и я просматривал книги в его огромной
библиотеке. Все они были украшены одним рисунком, который встречается сегодня в
некоторых книгах уже моей библиотеки, доставшейся мне по наследству от бабушки.
Хорошо помню, как она радовалась таким подаркам, и всегда старалась тоже
отблагодарить его взамен чем-то.
В.З.Зильберштейн уже много лет был вдовцом. За его хозяйством приглядывала
чистоплотная сельская женщина, она же имела там свою комнату. Помню, как он всегда
вежливо и корректно обращался к ней только на «вы»: – Дуся, будьте любезны, принесите, 370
пожалуйста… Через несколько месяцев после его смерти из Ленинграда приехал его сын, известный ученый, с которым они не поддерживали каких-либо отношений, и просил
домработницу дать ему на память несколько книг из отцовой библиотеки. Та отказала, он
зашел к бабушке, представился и попросил помочь ему. Бабушка пошла, о чем-то громко
говорила с той женщиной, делала упор на то, что «профессор приехал из самого
Ленинграда», и сын доктора получил, наконец, разрешение взять на память книги. После
этого бабушка пригласила его к себе, накормила, расспросила, а уже вечером (я почему-то
запомнил этот разговор) возмущенно рассказывала моей маме, что служанка доктора
Зильберштейна называет себя его женой и панически боится возможных наследников.
И еще я запомнил, что доктор Зильберштейн в свои последние годы почему-то увлекся
произведениями Ленина и говорил бабушке: – «Боже мой, Млода, здесь же сплошная
склока… Все у него плохие: Плеханов – такой, Аксельроде – сякой, тот – ренегат, этот –
безмозглый дурачок, а вся интеллигенция чохом – г…». Бабушка оглядывалась на меня, просила его прекратить, а потом строго наказывала мне не распространяться об этих
разговорах, отчего, наверное, и запомнил я это. Теперь, спустя годы, когда мне примерно
столько же лет, сколько тогда было им, я понимаю, что доктор Зильберштейн был в
высшей степени порядочным, достойным человеком, и то, что он так доверял моей
бабушке, говорит в ее пользу, и мне очень приятно.
***
И еще одна странная история, связанная с этим человеком. Его отец был купцом первой
гильдии, владел ювелирным магазином, где впоследствии жила моя бабушка. После его
смерти магазин был закрыт. Доктор наследовал состояние отца. В послереволюционные
годы у него была жена, к сожалению, душевнобольная, месяцами лечившаяся в клинике, и
сын, приезжавший в Херсон и получивший в память об отце несколько книжек. Многих
интересовало, куда делись ценности, находившиеся в ювелирном, ведь в те времена, можно не сомневаться, власти проводили в таких местах массовые обыски.
Мое предположение: об этом мог знать только доктор Зильберштейн. Душевнобольной
супруге, вскоре умершей, он вряд ли мог довериться, а сын был еще маленьким. Как бы
там ни было, ничего не нашли.
Уже после Великой Отечественной, когда туда вселялась бабушка, на стенах здания были
надписи саперов: проверено – мин нет.
Мне, по детской романтике, всегда казалось, что клад все-таки есть, и очень хотелось
разыскать его, но взрослые только смеялись. После смерти бабушки там жила моя
двоюродная сестра с семьей. Я несколько раз предлагал ей попробовать его разыскать, даже предлагал достать миноискатель. Такая возможность была, когда я работал в
Белозерке и имел хорошие отношения с милицейским начальством. Так это дело и
заглохло. Но вот сестра уехала в Израиль, и ее квартиру купил мой хороший знакомый и
открыл на этом месте магазин «Урсус».
Однажды я поделился с ним мыслями о кладе и посоветовал сделать то, чего не сделали
мы. Услышав меня, он побелел.
– Ну почему, почему ты не рассказал об этом раньше?
Оказывается, когда он делал перестройку помещения под магазин, у него работала целая
бригада, рабочие нашли в метровой толщине стены большой металлический сейф.
Открыть его не смогли и, боясь, что там может быть что-нибудь взрывчатое, позвонили в
милицию. Мой знакомый, хозяин магазина, в это время находился в командировке.
Вернувшись, он узнал, что сначала приехала милиция, осмотрела сейф и вызвала военных
саперов из Николаева. Те приехали, с трудом погрузили сейф в грузовую машину и
отбыли восвояси. После нашей беседы мой приятель связался с ними, и ему сказали, что в
сейфе ничего не нашли. Может, это и так, но после нашей беседы хозяин был очень
расстроен. Интересно, зачем и кому надо было хранить пустой сейф?
***
371

В нашем городе сегодня более 500 улиц. Масса всяких Восточных, Северных, Текстильных. Думаю, было бы справедливым, если бы одна из них, в знак благодарной
памяти тысяч херсонцев, была названа добрым именем этого подвижника. А ваше
мнение?
_______________________
ДВА БРАТА
Когда плывут осенние туманы, и с каждым днем становится холоднее, я стараюсь еще до
работы, улучить минутку, чтобы заскочить на набережную, и увидеть своими глазами, как
зарождается новое утро. Противоположный берег еле просвечивается сквозь молочную
завесу. Так было, есть и будет.
Как и наше прошлое, что уходит с годами в безвестную даль. Но как же хочется хотя бы
что-нибудь сохранить… Хочу рассказать одну странную историю, случившуюся с
нашими земляками много лет назад.
История эта начиналась в старом, вполне добротном здании, рядом с Потемкинским
сквером, где в последние годы располагался один обанкротившийся банк. Когда-то жила
здесь дружная семья известного в городе человека – потомственного дворянина , председателя Казначейской палаты, Андрея Григорьевича Сочеванова.
Послал ему Бог на старости, ну, лучше, скажем так, в зрелые годы, жену молодую, да двух
мальчиков-погодков, кстати, очень похожих внешне.
Здесь, на этой удобной веранде, коротая ленивое летнее время, они частенько сиживали за
самоваром знойными южными вечерами.
По утрам детей отводили в губернскую гимназию, которая жива и поныне, а после обеда
они садились делать уроки.
Но, как изрёк известный классик, все счастливые семьи похожи меж собою, зато в
каждой, не очень удачной, имеется что-то своё, особенное и больное.
Семья Сочевановых была бы, без преувеличения, счастливой, если бы на пятом – шестом
году брака не обнаружилась одна малость, которая это счастье существенно омрачала.
Дело в том, что иногда Клавдия Ильинична уходила… Ну, выходила из дому по каким-то
обычным делам, такая же, как всегда, спокойная и невозмутимая, но обратно являлась не
сразу. Родом она была из Екатеринбурга, и только значительно позже муж узнал, что эта
372


болезнь появилась у нее еще в детстве; чем она была вызвана – неизвестно, и врачи перед
этим недугом были бессильны. Чтоб не томить вас, скажу сразу: иной раз она исчезала на
день – два, но бывало, что несчастному супругу с безутешными малышами приходилось
дожидаться ее значительно дольше. Что происходило в такие дни в доме, как страдали без
мамы бедные мальчики, передать словами мне не под силу.
У Андрея Григорьевича всё падало из рук, подчиненные по службе относились к его
терзаниям с благоговейным состраданием, а домашняя прислуга, глядя на притихших
Бориса и Глебушку, изо всех сил сдерживала непрошеные слезы.
Как бы то ни было, но неожиданно приходил день, когда в доме появлялась их заблудшая, исхудавшая, изможденная матушка, ее родные нежные руки трепетно прижимали к себе
плачущих мальчиков, а виноватый взгляд потухших молодых глаз стыдливо обходил с
трудом сохранявшего кажущееся спокойствие супруга.
И снова над домом восходило яркое солнце…
Увы, пришел день, когда это солнце закатилось навсегда. Десятого марта 1908 года
Клавдия Ильинична в очередной раз ушла. Ушла и больше не вернулась. Ее долго искали.
Везде. Сначала еще на что-то надеялись. Наводили справки и рассылали запросы. Не
спали по ночам. Семья как бы замкнулась в своем несчастье. Вздрагивало, а потом гулко
билось сердце от каждого стука в двери.
Все напрасно. В опустошенных душах отца и сыновей мало – помалу поселились безверие
и обреченность.
Все-таки как ужасно, когда вдруг исчезает самый близкий и родной для тебя человек.
Воображение поминутно рисует всяческие картины мыслимых и немыслимых бед, а ты, 373
будто в холодном оцепенении, ничем не можешь помочь, и хочется громко, на весь свет
кричать, но сжимается горло и крика нет, а есть одна боль. Страшная, тупая, не
преходящая утром и вечером, днем и ночью боль. Боль, тоска и обреченность.
Первым не выдержал отец. Вначале – легкая простуда. Хрипы в горле. Скачущая
температура. Обильно потоотделение. Ураганное течение инфекционного заболевания
забрало его в считанные дни.
Перед смертью отец, приходя в сознание, глядел – не мог наглядеться на своих добрых
мальчиков, будущих сироток, и плакал, плакал, плакал… Он не боялся умереть, он очень
не хотел их оставлять.
Доктор посоветовал вызвать кого-нибудь из близких. Отправили телеграмму тетке, сестре
отца, в Майкоп. Она приехала. Тетка взяла на себя хлопоты, связанные с похоронами и
распродажей имущества. Бестужевская курсистка, она не умела торговаться, продала всё
за бесценок, и увезла мальчиков в Майкоп.
В тот злополучный год Глебу исполнилось пятнадцать, Борис был на год моложе. Могила
Андрея Сочеванова находится в пределах церкви старого городского кладбища, красивым
мраморным памятником можно до сих пор любоваться.
А теперь приготовьтесь к небольшому потрясению, проще сказать – шоку. В 1918 году, в
смутные времена начального становления на Херсонщине Советской власти, в городе
после многолетнего отсутствия объявилась… Клавдия Ильинична.
Учитывая царящую разруху, голодные и холодные будни, прозябание горожан в
небывалой разобщенности, ее появление было мало замеченным. Во всяком случае, на то, что она даже не сочла нужным посетить могилу бывшего супруга, никто не обратил
внимания. Людям было не до нее.
За это время в их доме сменилось несколько хозяев. Теперь в нем располагались какие-то
хозяйственные службы новой власти. Здесь же занимала две небольшие комнатки Пелагея
Устиновна Забиякина, в прошлом – прислуга семьи Сочевановых. Она работала
дворничихой, начальство неплохо к ней относилось, не возражали, когда старуха, по
старой памяти, приютила у себя бывшую хозяйку.
Жили они скромно, незаметно. Клавдия Ильинична большую часть времени проводила
дома. Пелагея на службе получала продуктовую карточку. Мне не хотелось бы чего-либо
домысливать, но, скорее всего, у бывшей хозяйки имелись какие-то ценности. Как она их
сохранила за столько лет, или откуда взяла, мне неизвестно. Сведущие люди утверждали, что Пелагея Устиновна изредка появлялась на Забалковском рынке, делала там украдкой
покупки хорошей дорогой снеди.
…Осень 1920 года была необычно дождливой. Сильные заморозки чередовались с
оттепелями. В ноябре вдруг набухли и стали отбивать маленькими листочками почки
сирени. Зачастили небывалые для тех мест поздней осенью густые утренние туманы.
В самом конце декабря по улице Витовской, в некотором отдалении от дома Сочевановых, медленно, казалось, бесцельно, прохаживался высокий молодой человек в видавшей виды
солдатской шинели.
Подметая улицу, Пелагея Устиновна почему-то обратила на него внимание, присмотрелась, и вдруг, охнув, упустила метелку и прижала ко рту руку в штопаной
варежке. Не стану описывать то, чего не видел: сцену встречи безвестно пропавшей
матери с невесть откуда взявшимся сыном. Судя по тому, что произошло дальше, вряд ли
она была слишком теплой. Но то, что мне стало известно из документов, расскажу.
Итак, в конце декабря 1922 года в свой старый херсонский дом вернулся с фронта и
встретился с матерью старший из двух братьев, Глеб. Клавдия Ильинична узнала от него, что после смерти отца братья недолго прожили у тетки в Майкопе, затем прошли
ускоренный выпуск Екатеринодарского пехотного училища и были произведены в
офицеры. Застали Первую мировую, затем, в гражданскую – служба у генерала Слащова.
Вначале братья служили в одном полку, потом их военные судьбы разошлись. В
последнее время младший брат, подполковник Борис Сочеванов командовал отдельным
374

пантонно-саперным батальоном. Ну а Глеб служил в штабе 16-й общевойсковой армии
старшим офицером оперативного отдела.
С трудом подбирая слова, Глеб сообщил матери, что в ходе Перекопско-Чонгарской
операции Борис с большей частью своего батальона навеки остался в Сивашских гнилых
топях. Об этом ему рассказал один из немногих уцелевших офицеров, личный адъютант
командира и невольный свидетель его гибели.
Самом Глеб со штабом армии в то время находился в Севастополе, но эвакуироваться на
судах союзников он не успел. Ему повезло – или Бог помог! – избежать массовых
расстрелов офицеров по приказу Бела Куна и Розалии Землячки, прокатившихся по всему
Крыму. Вначале эти большевики, уговаривая офицеров сложить оружие, клятвенно
гарантировали сохранить им жизнь, но своего слова не сдержали. Как потом говаривала
Землячка, это была маленькая военная хитрость. Хитрость на самом деле была маленькая, но погибло из-за нее более тридцати тысяч человек. Такие дела.
В общем, когда Глеб понял, что происходит, осталось только идти куда глаза глядят.
Решил искать приюта в своём городе детства. Пробирался темными ночами, и вот пришел.
Мать его слушала отстраненно, несколько раз почему-то уточняла: кто он на самом деле –
Глеб или Борис? Действительно – Глеб? Он уверен, что Глеб? Или все же – Борис?
Эти вопросы были непонятны, порождали какую-то тревогу, он не понимал, чего мать
хочет, переводил разговор, но, когда стал ей рассказывать о смерти отца, Клавдия
Ильинична не захотела его слушать и ушла в комнату Пелагеи.
О себе она сыну так ничего и не рассказала, да и он после столь длительной разлуки
держался с матерью несколько отчужденно.
Жить в одной комнате им было не очень удобно, но разве родные люди после долгой
разлуки обращают внимание на удобства?
Вместе их жизнь продолжалась недолго. Через пару недель поздно вечером, ближе к ночи, на улице остановился мотор и к ним постучали. Зашли четверо. Странное дело, обыска не
было. Глеб собрался по-военному быстро. Пелагея неловко отводила лживые глаза, сразу
стало ясно, кто навёл. Мать куталась в черную узорчатую шаль, дрожала и молчала. Мне
удалось достать фотографию того, кто лично проводил первые допросы задержанного
офицера. Это Витольд Лацетович Лангенс, председатель уездной Чрезвычайной комиссии
собственной персоной. В прошлом – пекарь. За долго до революции по уголовному делу
за изнасилование и убийство малолетней был осужден и пожизненно сослан на каторгу на
остров Сахалин.
Витольд Лангенс
После смуты объявил себя политкаторжанином и вот каких достиг высот. Через некоторое
время он пойдет на повышение в Одессу. В 30-м году, уже в должности замнаркома, будет
валяться в ногах у молодого, опьяненного властью следователя, целовать ему сапоги и не
применять к нему пыток допроса третьей степени. Но всё это еще впереди.
В 1020 году Чрезвычайка находилась в здании бывшего областного архива. О том, что
слышали и видели его стены лучше не говорить. Здесь же, на исходе третьих суток
375
пребывания (пролетарский суд суров и справедлив!) Глебу объявили приговор – высшую
меру социальной защиты, отвели в подвал и расстреляли.
Мечтая о справедливости, мне пришло в голову попытаться выяснить, кто привел
приговор в исполнение, другими словами, узнать имя палача. Попробовал через товарища, помощника губернатора. Напрасное дело. Секретная служба по-прежнему хранит свои
тайны. Хотя, в частном порядке мне намекнули, что при мудром большевике Лангенсе для
поддержания высокого духа и братского единства боевого коллектива расстрелы
проводили все сотрудники ЧК. Без исключения. Включая трех негласных оперативных
работников: двух секретарей- машинисток и буфетчицу.
Наверное, поэтому комиссар Лангенс, обмениваясь передовым опытом с коллегами из
других городов, не уставал гордо повторять: – Мы с вами не какие-нибудь карательные
органы, мы настоящее боевое братство, вот кто мы!
Итак, невезучего Глеба Сочеванова расстреляли, а в доме с верандой продолжалась своя
жизнь. На протяжение последующих лет Клавдия Ильинична – даром, что интеллигентка
и хрупкого сложения – крепко избивала свою соседку, дворничиху Пелагею. Однажды, после очередного выяснения отношений Пелагея Устиновна утром не встала. Ее отвезли в
больницу Тропиных, где через пару дней она скончалась. Похорон не было. Больничные
хозяйственные службы отвезли ее тело на кладбище, где и зарыли без гроба и
поминовения. А Клавдия Ильинична лишь жестко бросила: собаке – собачья смерть!
Эти слова повторяли в городе. Люди были на стороне несчастной матери. Со временем
она устроилась в регистратуру областной больницы, работала там много лет. Никогда
ничего не боялась. Говорила, что думала. Новую власть ненавидела всей душой. Бог ее
хранил. Вокруг многих карали и за меньшие прегрешения, люди исчезали бесследно, а ее, казалось, сама смерть боялась и избегала.
Все считали, что от жизненных потрясений тяжкая болезнь бродяжничества ее покинула
навсегда. Оказалось, не так.
Октябрьским утром 36-го года она ушла на работу, но в больницу не попала. Больше ее
никто и никогда не видел. Правда, некоторые узнавали ее уже в 1944 году нищенкой с
поводырем-старцем. Но это, пожалуй, не бесспорно.
На этом мне б завершить историю несчастного рода Сочевановых. Но не могу не привести
два небольших фрагмента, вызвавших у меня мистическое недоумение. Мне стоило
больших трудов и помощи друзей заглянуть в папку:
«Дело №124/12 активного участника контрреволюционного подполья, белого офицера
подполковника 14 общевойсковой армии Глеба Андреевича Сочеванова».
В этом деле всё, как в других подобных делах. Вопросы. Ответы. Ничего особенного. Во
враждебной деятельности признался – значит, вражина, не раскаялся. Смерть ему, гаду
подколодному!
Но есть здесь один листок, я вам сейчас приведу его. Хотя дорого бы отдал, чтобы его
никогда не видеть. Снова повторю: я никому не судья. Моё дело – факты. Ваше – оценка.
Вы готовы?
«Глубокоуважаемый господин и товарищ Чрезвычайный комиссар!
Как человек глубоко преданный советской власти и трудовому народу, с болью в душе
сообщаю, что ____ декабря, в доме № ___ по улице __________, появился и уже две
недели скрывается , избегая регистрации в уездной канцелярии белый офицер, дворянин и
классовый враг всех трудящихся – подполковник Сочеванов, который выдает себя за
Глеба, но, на самом деле, являясь его братом Борисом.
Прошу Вас разобраться, что заставило его скрываться под чужим именем. Из его слов
следует, что он служил в штабе генерала Слащева, расстрелявшего в Николаеве десятки
рабочих корабельного завода, избежал наказания в Крыму и пробрался в Херсон
нелегально.
За время пребывания его по вышеуказанному адресу с ним дважды встречались его
бывшие гимназические друзья-одноклассники: Георгий Мишин и Василий Михненко, сын
376
бывшего земского судьи Петра Никитича Михненка. Эти встречи сопровождались
длительными беседами.
При необходимости, могу дать показания по всем интересующим Вас вопросам. С
уважением и готовностью и впредь оказывать свое посильное содействие трудовому
народу и карающему мечу пролетарского правосудия – ЧК»
Дата.
Имя.
Фамилия.
Подпись.
Что ж, здесь вполне можно поставить точку на этой истории. Теперь, наконец, некоторые
вещи становятся понятнее: почему, например, всех болтунов и недоносителей из
окружения несчастной матери ожидала горькая участь, а нашей Клавдии Ильиничне все-таки удавалось избегать преследований.
Всё это так. И ее поведению тоже можно дать какое-то объяснение. Чего от нее ждать –
больной человек. Да еще с непонятными причудами. С ее бродяжничеством.
Кстати, вы тоже заметили, как грамотно был написан донос? Смотрите, какие когда-то
были у нас образованные дворники! Вот только одно я, простите, забыл указать. Чья
подпись стоит под этим листком. Потому что о Глебе или Борисе, кто он там есть на
самом деле, доносит в Чрезвычайную комиссию… его мать, Клавдия Ильинична
Сочеванова.
Всё, больше мне говорить не о чём.
Хотя в этой папке подшит – пусть и значительно позже – уже в шестидесятые годы еще
один интересный документ:
Начальнику Управления КГБ СССР
по Херсонской области
полковнику Брыкину П.И.
Во исполнения запроса DERTEKS 271152. США, штат Иллинойс, согласно Директиве
Совета Министров СССР 236 от 15.12.1958 г. «Об имущественных правах наследования
граждан по ТЭН/линии Юнюрколлегии СССР» прошу предоставить в полном объеме
данные о ВСЕХ, проживавших до Великой Октябрьской социалистической революции в
городе Херсоне членах семьи Сочевановых. Отец – Андрей Гриорьевич Сочеванов, потомственный гражданин, 1859 г.р., умер в 1912 году.
Обращаю ваше внимание на представление информации в развернутом виде, по форме
12-а, не только по прямым, но и по косвенным линиям наследования.
Напоминаем об установленным Законом месячном сборе затребованной информации.
Заместитель Председателя Инюрколлегии СССР
Государственный советник юстиции 1 класса
Аникеев Д.К.
***
Остается по-прежнему непонятным: если запрос пришел по наследованию состояния
Глеба Сочеванова, проживавшего в США, кого же тогда и почему предала их мать?
Впрочем, сейчас это меня уже не интересует.
Над Днепром, как и много лет назад, осенние рассветы окутаны густым туманом…
================
377

Я ПОДАРИЛ ЕЙ ПАРОХОД В 1972 ГОДУ…
Хотя прошло много лет, приятно вспомнить, что доводилось и мне делать щедрые
подарки. Как я любил свою рыжеволосую сокурсницу! С каким трепетом ловил взгляд ее
– до сих пор не пойму, какого цвета – глаз… А так как заинтересовать ее моя скромная
персона шансов не имела, выход был только один: покорить щедростью подарков. Ее
звали Ольга, и с тех пор это имя всегда со мной. И однажды я, несмотря на критическое
финансовое положение, все же решился – и сделал такой подарок. И к чести своей, не
пожалел об этом никогда.



