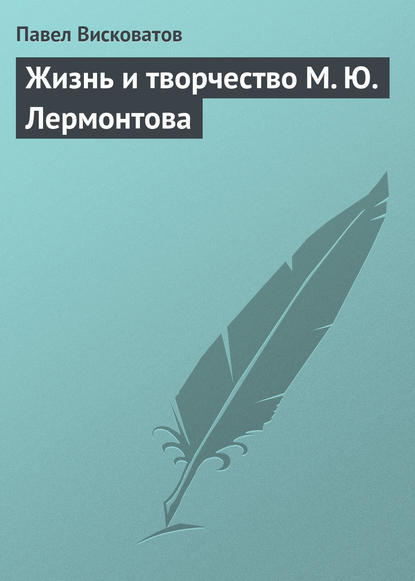 Полная версия
Полная версияЖизнь и творчество М. Ю. Лермонтова
Говорил Лермонтов и о вопросах, касавшихся общего положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице я услыхал от него тогда в первый раз в жизни моей такое жестокое мнение, что оно и теперь еще кажется мне преувеличенным.
Промокшие до костей, приехали мы в Пятигорск и вместе остановились на бульваре в гостинице, которую содержал армянин Найтаки. Минут через 20 в мой номер явились Столыпин и Лермонтов, уже переодетыми, в белом, как снег, белье и халатах. Лермонтов был в шелковом темно-зеленом с узорами халате, опоясанный толстым поясом с золотыми желудями на концах. Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину:
– Ведь и Мартышка, Мартышка здесь! Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним.
Именем этим Лермонтов приятельски называл старинного своего хорошего знакомого Николая Соломоновича Мартынова».
Тотчас по приезде Лермонтов стал изыскивать средства получить разрешение остаться в Пятигорске. Он обратился к услужливому и «на все руки ловкому» Найтаки, и тот привел к нему писаря из Пятигорского комендантского управления Карпова, который заведывал полицейской частью (в управлении тогда сосредоточивались полицейские дела) и списками вновь прибывающих в Пятигорск путешественников и больных. Офицеры охотно пользовались каждым удобным случаем, чтобы оставаться подольше в веселом Пятигорске. Когда комендант, добродушный Ильяшенко, высылал на место служения, обращались к доктору Реброву, который не отказывался давать свидетельства о болезни. Положат такого пациента дня на два в госпиталь, а потом под предлогом недостатка места, отпустят долечиваться на квартиру. Даже начальство, приметив слишком большое скопление «нездоровых» офицеров в Пятигорске, распорядилось, чтобы тех, кому не надо было пользоваться минеральными водами, отправлять в Георгиевский военный госпиталь. Лермонтов не раз обращался к доктору Реброву, когда желал оставаться в Пятигорске, но на этот раз он к нему обратиться не решился, вследствие какой-то размолвки (не из-за истории ли с его дочерью, о которой говорено выше?). Вот ему и пришлось обратиться за помощью Карпова. Он составил рапорт на имя Пятигорского коменданта, в котором Лермонтов сказывался больным. Комендант Ильяшенко распорядился об освидетельствовании Михаила Юрьевича комиссией врачей при Пятигорском госпитале. «Я уже раньше, – рассказывает Карпов, – обделал дельце с главным нашим лекарем, титулярным советником Барклай-де-Толли». Лермонтов и Столыпин был признаны больными и подлежащими лечению минеральными ваннами, о чем 24 мая за N N 805 и 806 комендант Ильяшенко донес в штаб войск Кавказской линии и Черномории в Ставрополь. К рапорту было приложено и медицинское свидетельство о болезни обоих офицеров.
Чтобы покончить с этой формальной частью вопроса о том, своевольно ли или с разрешения начальства Лермонтов оставался в Пятигорске, скажем, что в ответ на рапорт коменданта Ильяшенко флигель-адъютант полювник Траскин от 8 июня писал ему, что не видя из приложенных к рапорту свидетельств о болезни, чтобы капитану Столыпину и поручику Лермонтову было необходимо пользоваться минеральныим водами, а усматривая, напротив, что болезнь их может быть излечена и другими средствами, просит их немедленно выслать в Георгиевский военный госпиталь. «Всем же прибывшим из отряда офицерам, кроме раненых, объявить, что командующий войсками к 15 числу (июня) прибудет в Червленую, и соблюсти, чтобы они к тому времени выехали из Пятигорска, кроме майора Пушкина, о котором последует особое распоряжение».
Комендант предписал Лермонтову и Столыпину отправиться или в отряд, или в Георгиевский госпиталь и препроводил им подорожную. Лермонтов отвечал на это рапортом от 18 июня (за N 132): «Ваше высокоблагородие предписать мне за N 1000 изволили отправиться к месту моего назначения или, если болезнь моя того не позволит, в Георгиевск, чтобы быть зачисленному в тамошний госпиталь. На это честь имею почтительнейше донести, что, получив от вашего высокоблагородия позволение остаться здесь до излечения и также получив от начальника штаба полковника Траскина предписание, в котором он также дозволил мне остаться здесь, предписав о том донести полковому командиру полковнику Хлюпину и отрядному дежурству, и так как я уже начал пользование минеральными водами и принял 23 серных ванн, то, прервав курс, подвергаюсь совершенному расстройству здоровья и не только не излечусь от своей болезни, но могу получить новые, для удостоверения в чем имею честь приложить свидетельство меня пользующего медика. Осмеливаюсь при том покорнейше просить походатайствовать мне у г. начальника штаба позволение остаться здесь до совершенного излечения и окончания курса вод». (Такого же содержания рапорт подал и Столыпин.)
Ильяшенко от 23 июня (за N 1118) сообщал об этом полковнику Траскину, но ответа от него не последовало. Кроме этого, есть сведения о том, что Лермонтов писал тоже письмо к генералу Граббе и, быть может, последний, благоволя к поэту, посмотрел сквозь пальцы на все дело, или же распоряжение его не успело дойти до поэта еще при жизни. Надо полагать, что было решено вообще принять меры более действенные для удаления из Пятигорска укрывавшихся там офицеров; это видно из того, что на другой день после смерти Лермонтова в Пятигорск приезжает Траскин, и им принимаются меры, чтобы офицеры тотчас разъехались по своим частям. Приехать в Пятигорск из Ставрополя по случаю смерти Михаила Юрьевича Траскин, конечно, не мог, потому что в то время события сообщались не по телеграфу. Во всяком случае, Лермонтов, высказал малую ретивость ехать в действующий отряд. Боевая жизнь была ему достаточно известна и уже не тянула к себе.
Написав первый свой рапорт Ильяшенко, друзья пошли осматривать рекомендованную им квартиру в доме Василия Ивановича Чиляева, лежавшем на краю города, на верхней площадке, недалеко от подошвы Машука. Обойдя комнаты, поэт остановился на балкончике, выходившем в садик на противоположной стороне дома. Деревья, тогда еще молодые, целы до сей поры и теперь оттеняют весь домик, но крытый балкончик, давно обветшалый, был сломан еще в 50-х годах. Пока Столыпин делал разные замечания и осведомлялся о цене квартиры, Михаил Юрьевич стоял задумавшись. Сговорившись с хозяином, Алексей Аркадьевич спросил своего друга: «Ну что, Лермонтов, хорошо ли?» Поэт словно очнулся и небрежно ответил: «Ничего… здесь будет удобно… дай задаток». Столыпин вынул бумажник и заплатил все деньги за квартиру.
Наружность домика, или, вернее, хаты, была самая незатейливая и совершенно походила на казацкие домики в слободках Пятигорска, Кисловодска и других городках и станицах. Он, очевидно, воздвигался помаленьку. К нему пристраивали то новый вход и сени, то заменяли дверь окном и обратно. Окна все были разных величин. Стены дома снаружи были вымазаны глиной и выбелены. Крыша тростниковая с одной трубой.
Домик внутри разделен был накрест стенами, которые образовывали четыре комнаты. Из пристроенных, очевидно, позднее сеней вели две двери: налево – в перегороженную прихожую; отсюда одна в две комнаты, выходившие окнами на двор – их занял Столыпин, другая – в две комнаты с окнами в сад – их занял Лермонтов. Впрочем, квартира у них была общая и соединялась дверью между двумя крайними комнатами.
Вид квартира имела более чем скромный. Низкие приземистые комнаты, с выбелишыми дощатыми потолками и крашенными разноцветной краской стенами, были обставлены сборной мебелью разной обивки и дерева, по большей части окрашенного темной масляной краской. Все условия жизни в Пятигорске были тогда весьма просты. Сам город имел характер, который теперь сохранили слободки его. Каменных домов почти не было. Лестницы, ведущей с бульвара к Елисаветинскому источнику, тоже. К нему поднимались горными тропинками, обсаженными виноградниками, которых теперь и след простыл. За Елисаветинской галереей, там, где ныне находятся Калмыцкие ванны, был один общий бассейн, в котором купались прежде без разбора лет и пола, а затем соблюдая очередь мужских и дамских часов. Бульвар, не доходя до Елисаветинского источника, оканчивался полукругом, и только по обеим сторонам его стояли более «элегантные» дома. Посетители были большей частью помещики наших степных губерний, немного из обеих столиц, а всего более было офицеров Кавказского корпуса. Самая пестрая, разноязычная толпа в военных, гражданских и народных азиатских костюмах расхаживала по бульвару, особенно во время вечерней музыки около Николаевских ванн.
Жизнь в Пятигорске была веселая, полная провинциальной простоты, и только приезжие из столиц вносили «чопорность», по выражению местных жителей. Последние коротали время без затей. Захочется потанцевать – сложатся, пригласят музыку с бульвара в гостиницу Найтаки – и приглашает каждый своих знакомых на танцы, прямо с прогулки, в простых туалетах. Танцевали знакомые с незнакомыми, как члены одной семьи. Однако уже в то время этот обычай стал выводиться, уступая новым порядкам, вводимым столичными гостями. На вечерах «официальных», когда гостиница Найтаки обращалась в благородное собрание, дамы появлялись в бальных туалетах, а военные – в мундирах. Местное общество, особенно дамы, не сходилось со «столичными гостями». Выезды и пикники тех и других носили различный характер. Кавалькады местного или «смешанного общества», как называли его противники, отличались пестротой и шумливостью. Ездили или в колонию Кар-рас, верстах в семи от Пятигорска, или на Перкальскую скалу – место на склоне лесистого Машука, где стояла сторожка и жил сторож Перкальский, бесстрашный и умный старик, умевший жить в мире с чеченцами, а для приезжего водяного общества предлагавший некоторые примитивные удобства при прогулках и пикниках. Ездили и к «провалу», воронкообразной пропасти на скате Машука, глубиной сажен в 15, на дне которой находится глубокий бассейн серной воды, до дна которого, рассказывают, «никто доискаться не мог». Теперь к нему прорыт туннель, и доступ удобен; в 1840-х годах только смельчаки спускались туда сверху на веревках. Случалось, что затейники покрывали «провал» досками, и на них давались импровизированные балы. Это называлось танцевать над «пропастью» или над «адской бездной». Молодые люди чувствовали себя свободнее среди местного общества, но многим было лестно попасть в «аристократический круг» приезжих и хоть на водах сблизиться с лицами, которые в Петербурге были им мало доступны. Местное общество, впрочем, тоже имело свое подразделение на более и менее аристократическое. Более аристократическое было в антагонизме с приезжей аристократией, оберегало права свои и ревниво не уступало своих кавалеров. Между местными жителями пользовался особенным уважением дом бывшего наказного атамана всех кавказских казаков (собственно кавказской казачьей бригады) генерал-лейтенанта Петра Семеновича Верзилина, сослуживца Ермолова. Имея дочь от первого брака Аграфену Петровну, Верзилин женился на вдове полковника Марии Ивановне Клингенберг, имевшей дочь Эмилию Александровну. От этого брака родилась еще дочь, Надежда Петровна. Кроме этих барышень наезжала еще и приемная дочь – Карякина, бывшая замужем за купцом. Хлебосольный хозяин, радушная хозяйка и три красивые, веселые дочери привлекали в дом молодых людей. Веселье, смех, музыка и танцы часто слышались сквозь окна гостеприимного дома. Сад его соприкасался с домом Чиляева, а рядом с этим домом по другую сторону находился опять другой еще дом Верзилиных, в котором жили: корнет Михаил Глебов и Николай Соломонович Мартынов. Передний дом Чиляева занимал состоявший при ревизирующем сенаторе Гане титулярный советник князь Александр Илларионович Васильчиков. Таким образом, наняв квартиру в дворовом домике Чиляева, Столыпин и Лермонтов находились в ближайшем соседстве с хорошими знакомыми и товарищами по школе гвардейских юнкеров. Через Глебова и Мартынова познакомились они и с семьей Верзилиных. Менее часто бывал там князь Васильчиков, еще реже Столыпин. Из прочих постоянных посетителей назовем Льва Сергеевича Пушкина, брата поэта; весьма юного, еще недавно произведенного в офицеры Лисаневича, сына храброго генерала Лисаневича, изменнически убитого кумыками в Герзель-Ауле, полковника Зельмица (жившего с дочерьми своими тоже в доме Верзилиных), поручика Н. П. Раевского (впрочем, редко бывавшего у Верзилиных), юнкера Бенкендорфа, князя Сергея Трубецкого и других.
Понятно, что молодежь ухаживала за барышнями в доме Верзилиных, в особенности за Эмилией Александровной, носившей название «Розы Кавказа», и младшей из сестер Надеждой Петровной, главными поклонниками которой были Мартынов и Лисаневич. Старшая Аграфена Петровна была «просватана за приставом трухменских народов Диковым» – ее и называли трухменской царицей – Лермонтов написал шуточное шестистишие, в котором изображает трех девушек и ухаживавшую за ними молодежь:
Пред девицей EmilieМолодежь лежит в пыли,У девицы же NadineБыл поклонник не один;А у Груши целый векБыл лишь дикий человек.Предводителем всей этой молодежи был Михаил Юрьевич. Иногда его веселость и болтливость доходили до шалости. Времяпрепровождение бывало полно детской незатейливости. «Бегали в горелки, играли в кошку-мышку, в серсо, – рассказывает Эмилия Александровна, – потом все это изображалось в карикатурах, что нас смешило. Однажды сестра (Надя) просила написать что-нибудь ей в альбом. Как ни отговаривался Лермонтов, его не слушали, окружили толпой, положили перед ним альбом, дали перо в руки и говорят: пишите. Лермонтов посмотрел на Надежду Петровну… В этот день она была причесана небрежно, а на поясе у нее был небольшой кинжальчик. На это-то и намекал поэт, когда набросал ей экспромтом:
Надежда Петровна,Зачем так неровноРазобран ваш ряд,И локон небрежныйНад шейкою нежной,На поясе нож –«С' est un vers qui cloche…»[16]Эта веселая жизнь «лермонтовской банды», как называли молодежь, которой он руководил, возбуждала зависть в одних, неприязнь в других. Вновь приезжие, мало знакомые с Кавказом, особенно петербуржцы, поражались отсутствию сдержанности в местном обществе. Они были вежливы, но держались вдалеке от кавказцев; удивлялись тем из своих товарищей, которые могли вести с ними постоянное общение, и в интимном кругу называли это «sencanailler»[17]. Они находили, что в экспедициях, на службе можно и должно поддерживать товарищеские отношения, но в обществе следует строго держаться тех границ, которые налагаются положением. Конечно, «на водах» можно себе дозволить некоторые вольности, но надо уметь полагать им предел. Действительно, на Кавказе были весьма неприглядные личности, подобные драгунскому капитану, выведенному Лермонтовым в «Герое нашего времени», но были и «Максимы Максимовичи». Для вновь прибывавших гвардейцев и вообще членов петербургского общества эта разница ускользала. Люди, как конногвардеец Глебов, ее вполне осознавали, но новички в кавказской жизни в ней разбираться не могли и приносили с собой, особенно на первых порах, привычки, интересы и предрассудки столичных гостиных и категорий. Этим людям Лермонтов был неприятен, даже ненавистен, уже и в Петербурге. Он, как пишет Соллогуб, «по рождению не принадлежал к высшему кругу».
Поэт завоевал себе там положение, держался с некоторыми из ряду выходившими людьми, как семьи князя Одоевского и Карамзиных, да прекрасными женщинами, «царицами салонов», но про него, как про Пушкина, говорили, что сел он не в свои сани, и видели в нем дерзкого выскочку, который, несмотря на небольшой чин и опальное свое положение, тщится играть роль, которую играть ему не подобает. Его ненавидели там за резкость и остроту языка, за его антимолчалинские свойства, за самобытность и самостоятельность суждении, за возрастающую славу и репутацию таланта, выходившего из пределов обыденности. И вот этот-то человек, опальный и в последнее время выброшенный из Петербурга за «неумение вести себя», и тут опять играет роль, первенствует, острит, глумится, бьет в лицо петербургским традициям. «Тут выказались, – говорили они, – вся его армейская натура, показалось ослиное ушко из-за накинутой львиной шкуры».
Лермонтов, со своей стороны, платил им презрением, сердил, острил над ними, выставлял их в смешном виде. Он с особенным наслаждением, доходя до молодечества, задевал их своими выходками, являясь, то бесшабашно заносчивым, то отменно вежливым, но всегда с оттенком презрения. Лермонтов сильно ненавидел людей, занятых собой, самолюбие которых значительно превышало умственные их способности, и которые принимали за оригинальность и превосходство ума своего обыденность общественной морали и общепринятые суждения, которыми прониклись. К людям недалеким, но простым и искренним, поэт относится дружественно и тепло. «Ты просто глуп и слава Богу!» – говорил он о них. Особенно не терпел Михаил Юрьевич тех из посетителей Кавказских вод, которые напускали на себя аристократический вид, и, подделываясь под тон присутствующих членов «высшего общества» и всячески угождая им, полагали, что хоть временно могут заставить верить простаков в принадлежность их к «высшему кругу». Про этих-то людей Лермонтов в повести своей выразился: «Они исповедуют глубокое презрение к провинциальному обществу и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают».
Многие очень молодые или несамостоятельные люди не знали, куда примкнуть. У Верзилиных было весело, да и семья была с положением, но там бывают и «армейские кавказцы». Не хотелось им принадлежать к лермонтовской банде, хотелось им считаться в обществе серьезном, аристократическом. В одном кругу – веселье и непринужденность, в другом для них скука, но зато возможность бросить пыль в глаза: «Глядите-де, с кем я знаком!» К тому же, члены петербургского общества, косясь на круг Лермонтова, охотно отрывали оттуда членов и привлекали к себе особенно тех, кто по рождению и положению считался принадлежащим к аристократическому слою. Князь Васильчиков, тогда еще 22-летний юноша, испытал на себе затруднительность положения. Он редко бывал у Верзилиных, более примыкая к противоположному лагерю, но, как хороший и чистый человек, не чуждался личных отношений с Лермонтовым и приятелями его, тем более, что безукоризненный «лев» столичных гостиных, Столыпин, был ближайшим другом Михаила Юрьевича. Не знал, как собственно держать себя и Николай Соломонович Мартынов; по товарищеским традициям примыкал он к кружку Лермонтова, он и жил с Глебовым и до известной степени подчинялся ему. В сущности добродушный человек, он при огромном самолюбии особенно, когда оно было уязвлено, мог доходить до величайшего озлобления. Уязвить же самолюбие его было очень нетрудно. Он приехал на Кавказ, будучи офицером кавалергардского полка, и был уверен, что всех удивит своей храбростью, что сделает блестящую карьеру. Он только и думал о блестящих наградах. На пути к Кавказу, в Ставрополе, у генерал-адъютанта Граббе за обеденным столом много и долго с уверенностью говорил Мартынов о блестящей будущности, которая его ожидает, так что Павел Христофорович должен был охладить пылкого офицера и пояснить ему, что на Кавказе храбростью не удивишь, а потому и награды не так-то легко и даются. Да и говорить с пренебрежением о кавказских воинах не годится. «К нам (в 1839 году) на квартиру, – рассказывает Костенецкий, состоявший в то время при штабе в Ставрополе, – почти каждый день приходил Н. С. Мартынов. Это был очень красивый молодой гвардейский офицер, блондин, со вздернутым немного носом и высокого роста. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел под фортепьяно романсы и полон надежд на свою будущность: он все мечтал о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. После он уехал в Гребенский казачий полк, куда он был прикомандирован, ив 1841 году я увидел его в Пятигорске. Но в каком положении! Вместо генеральского чина он был уже в отставке всего майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского молодого человека сделался каким-то дикарем: отрастил огромные бакенбарды, в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, мрачный и молчаливый». Мартынов в общем носил форму Гребенского казачьего полка, но, как находившийся в отставке, делал разные вольные к ней добавления, меняя цвета и прилаживая их согласно погоде, случаю или вкусу своему. По большей части он носил белую черкеску и черный бархатный или шелковый бешмет. В последнем случае – это бывало в дождливую погоду – он надевал черную папаху вместо белой, в которой являлся на гулянье, Рукава черкески он обыкновенно засучивал, что придавало всей его фигуре смелый и вызывающий вид. Он был фатоват и, сознавая свою красоту, высокий рост и прекрасное сложение, любил щеголять перед нежным полом и производить эффект своим появлением. Охотно напускал он также на себя мрачный вид, щеголяя «модным байронизмом». Неудивительно, что Лермонтов, не выносивший фальши и заносчивости, при всем дружественном расположении к Мартынову нещадно преследовал его своими насмешками.
Так как Лермонтов с легкостью рисовал, то он часто и много делал вкладов в альбом, который составлялся молодежью. В него вписывали или рисовали разные события и случайности из жизни водяного общества, во время прогулок, пикников, танцев; хранился же он у Глебова. В лермонтовских карикатурных набросках Мартынов играл главную роль. Князь Васильчиков помнил, например, сцену, где Мартынов верхом въезжает в Пятигорск. Кругом восхищенные и пораженные его красотой дамы. И въезжающий герой, и многие дамы были замечательно похожи. Под рисунком была подпись: «Monsieur le poignard faisant son entree a Piatigorsk»[18]. В альбоме же можно было видеть Мартынова, огромного роста с громадным кинжалом от пояса до земли – объясняющегося с миниатюрной Надеждой Петровной Верзилиной, на поясе которой рисовался маленький кинжальчик. Комическую подпись князь Васильчиков не помнил. Изображался Мартынов часто на коне. Он ездил плохо, но с претензией, неестественно изгибаясь. Был рисунок, на котором Мартынов, в стычке с горцами что-то кричит, махая кинжалом, сидя в полуоборот на лошади, поворачивающей вспять.
Михаил Юрьевич говорил: «Мартынов положительно храбрец, но только плохой ездок, и лошадь его боится выстрелов. Он в этом не виноват, что она их не выносит и скачет от них». «Помню, – рассказывает Васильчиков, – и себя, изображенного Лермонтовым, длинным и худым посреди бравых кавказцев. Поэт изобразил тоже самого себя маленьким, сутуловатым, как кошка вцепившимся в огромного коня, длинноногого Монго Столыпина, серьезно сидевшего на лошади, а впереди всех красовавшегося Мартынова, в черкеске, с длинным кинжалом. Все это гарцевало перед открытым окном, вероятно, дома Верзилиных. В окне были видны три женские головки. Лермонтов, дававший весьма меткие прозвища, называл Мартынова: «le sauvage au grand poignard»[19], или «Montagnard au grand poignard»[20], или просто «Monsieur le poignard»[21]. Он довел этот тип до такой простоты, что просто рисовал характерную кривую линию, да длинный кинжал, и каждый тотчас узнавал, кого он изображает».
Обыкновенно наброски рассматривались в интимном кружке, и так как тут не щадили сами составители ни себя, ни друзей, то было неудобно сердиться, и Мартынов затаивал свое недовольство. Однако бывали и такие карикатуры, которые не показывались. Это более всего бесило Мартынова. Однажды он вошел к себе, когда Лермонтов с Глебовым с хохотом что-то рассматривали или чертили в альбоме. На требование вошедшего показать, в чем дело, Лермонтов захлопнул альбом, а когда Мартынов, настаивая, хотел его выхватить, то Глебов здоровой рукой отстранил его, а Михаил Юрьевич, вырвав листок и спрятав его в карман, выбежал. Мартынов чуть не поссорился с Глебовым, который тщетно уверял его, что карикатура совсем к нему не относилась.
В душе Лермонтов не был зол, он просто шалил и ради острого слова не щадил ни себя ни других; но если замечал, что заходит слишком далеко, и предмет его нападок оскорблялся, он первый спешил его успокоить и всеми средствами старался изгладить произведенное им дурное впечатление, нарушавшее общее мирное настроение.
Однажды он неосторожным прозвищем обидел жену одного из местных служащих. Дама не на шутку огорчилась. Лермонтову стало жаль ее, и он употребил все усилия получить прощение ее. Бегал к ней, извинялся перед мужем, так что обиженная чета не только его простила, но почувствовала к Михаилу Юрьевичу самую сильную любовь и приязнь.
Лермонтов был шалун в полном ребяческом смысле слова, и день его разделялся на две половины, между серьезными занятиями и чтением и такими шалостями, какие могут прийти в голову разве только 15-летнему мальчику, например, когда к обеду подавали блюдо, то он с громким смехом бросался на него, вонзал свою вилку в лучшие куски, опустошал все кушанье и часто оставлял всех нас без обеда. В Пятигорск являлся помещик с тетрадкой стихов. Он всем надоедал ими и добивался, чтобы его выслушал и Лермонтов; тот под разными предлогами увиливал, но, узнав, что помещик привез с собой небольшой боченочек свежепросоленных огурцов, редкость на Кавказе и до которых Михаил Юрьевич был большой охотник, последний вызвался прийти на квартиру к стихотворцу с условием, чтобы он угостил его огурцами. Помещик пришел в восторг, приготовил тетрадь стихов и угощение, среди которого на первом месте стоял боченочек с огурчиками. Началось чтение. Пока автор все более увлекался декламацией своих виршей, Лермонтов принялся за огурцы и, в ответ на вопросительные междометия и восклицания чтеца, только выражал свое одобрение. Чтение подходило к концу; Лермонтов, успев съесть часть огурчиков, другой набил себе карманы и стал прощаться. Тут только объяснилось, что похвалы Михаила Юрьевича относились к огурцам, а не к стихам. Помещик пришел в негодование и всюду рассказывал о бесстыдстве Лермонтова, съевшего все огурцы, припасенные для подарка кому-то. «И как только он успел съесть их все?!» – говорил недоумевавший пиит.



