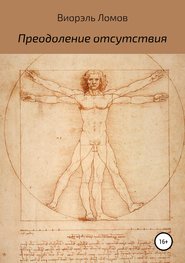
Полная версия:
Преодоление отсутствия
– Тяжелый, – сказал он, – килограмма три.
– Шесть.
– В весе, расстоянии и во времени я всегда ошибаюсь ровно в два раза, но зато по части вкусовых ощущений и запахов я эксперт-дегустатор.
Я никогда не сомневался, что в человеке может сидеть зверь, но никак не предполагал, что этот зверь может быть таким голодным. Мы так уписывали жаркое и няню, что трещало за ушами и некогда было обмолвиться словом. Порции были преизрядные и вполне хватило бы одного блюда, чтобы набить брюхо. Но у голодного, верно говорят, два брюха: одно – так, другое – на всякий случай. Однако мы умяли все до крошки и хлебом подчистили тарелки.
– Повар останется доволен, – проурчал эксперт.
Тут весьма кстати довольный повар принес нам по тарелке прохладительных вишен, предварительно выдержанных в игристом вине и переложенных корицей, гвоздикой, лавровым листом. Вишни были залиты медом. Венчал наш скромный обед клюквенный квас, поданный в двух высоких отпотевших стаканах, с гравировкой «Счастливого пути!» с одного бока и нашими именами с другого.
– Да уж, – сказал я, – за рубль пятнадцать…
– Уж замуж невтерпеж – и за рубль пятнадцать. Вообще-то в музеях закусочных не должно быть, но я не знаю такого музея, где бы их не было. Хотя такое питание крайне вредно с позиций раздельного питания. Но с другой стороны, питаться раздельно – это все равно, что заниматься любовью с женщиной в разных комнатах.
Я надел шлем и мы вышли, сердечно попрощавшись с поваром, наотрез отказавшимся от чаевых. «Жаль, что спешите. А то попробовали бы еще индейку по-рыцарски».
– Ну что, куда? – спросил мужчина, ковыряясь в зубах. – В очередь не хочется. Настоимся еще. Поищем где-нибудь укромное местечко, посидим, отдохнем.
– Я не прочь и всхрапнуть, – зевнул я.
Мы нашли пустую комнату с каким-то хламьем на полу и расположились на отдых.
– Что с этим чертовым бегунком делать? – спросил я. – Тут уйма подписей.
– Я подпишу, – небрежно бросил мужчина и, взяв мой бегунок, повертел его, рассматривая, вздохнул: – Ничего нового! – и аккуратно, с тщанием сто раз вывел свою подпись. Ему это доставляло видимое удовольствие, у него, как мне показалось, в этот момент усилилось слюноотделение.
– И кому его теперь?
– Найдется кто-нибудь. На этом добре целая гвардия сидит, – он достал из заднего кармана брюк маленькую плоскую фляжку, отвинтил крышечку, плеснул в нее темную жидкость и протянул мне.
– «Белый аист». Напиток забвения. На брудершафт. Руками только вязать знак бесконечности не будем – с бесконечностью не надо шутить. Да и эдакой мусей-пусей как-то выглядеть…
Коньяк был добрый, но тепловатый.
– Парниковый эффект, – пояснил он, ткнув себя в зад. – Но если вообразить, что сейчас трескучий декабрь, – очень даже ничего. На морозе трещат сучья ну и жизнь же наша сучья. Где запятые поставишь? Еще?
Я указал эксперту на объявление, нацарапанное на листочке: «Пропала собака сука верни за вознаграждение», – и сказал:
– А зачем запятые? С ними пропадает ажурность конструкции.
Мы хлопнули еще по одной, потом, для завершенности, по третьей – я из крышечки, он из фляжки. О запятых, понятно, больше не вспоминали.
– А-а… Спасибо, аист, спасибо, птица. Ну как тут было не напиться!
– А ты кто? – напрямик спросил я его.
– Я? Я теперь твой коньячный брат. Мы теперь с тобой в одном коньячном братстве. А вообще-то, я Андрей-стрелок: пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что. Разве мы знаем о себе: кто мы, откуда и куда, разве мы знаем ответ на вопрос «зачем?» Нам нельзя дать имя, так как имя убьет нас. Мы как Одиссей, никто, вечные странники, осенние листья. Сейчас вот несет нас в шестой зал.
– Ну и болтать же ты горазд, «агасфер», – сказал я. – Бери свой крест и пошли.
Меня взяла легкая досада. На простые вопросы, видно, никогда не получишь простых ответов. Что за день сегодня. День болтунов.
– Я не болтун. Я – Рассказчик. Цыганки по руке гадают и врут про судьбу, а я по твоей судьбе расскажу все о тебе, даже какие у тебя руки и какая там на руках хиромантия. Не Херо – Хиро, все почему-то путают. Был такой искусник.
«Хм, – подумал я, – ну и спутника мне послал Господь!»
– Да, альтер эго своего рода, – подтвердил Рассказчик. – Ну что ж, – помолчав, продолжил он. – Чтобы не быть голословным – слушай о себе мой сказ. Начну с рождения. Твоего, разумеется. Разувай-ка, Рыцарь, ухо – моет руки повитуха.
Глава 6. Рождение Мурлова. Эвдаймония
– Да-да, врут цыганки про чужую судьбу. Что знают они о ней? – повторил Рассказчик. – О своей-то судьбе ничего не знают. Им не дано. Я знаю твою судьбу. И не только твою, – в голосе его зазвучала торжественность, заставившая меня забеспокоиться – уж не сумасшедшего ли отрядила мне в спутники судьба? Словоохотливость – не порок, но есть в ней что-то болезненное. Занудность (мне больше нравится слово «занудство») ведь тоже болезнь. А если человек болен сам, видит ли он в другом здоровое?
– Слушай же правду, одну только правду и ничего кроме правды.
– Да-да, пожалуйста, будьте так любезны, – попросил я.
– Родился ты в мае сорок шестого… Нет, так не пойдет. Еще зазнаешься. Вы, тельцы, хоть и любите земные радости, но тоже большие зануды. Вы любите, когда говорят о вас, но нельзя же говорить только о вас. А вы к этому привыкаете очень быстро. И главное – не все же я буду говорить о тебе лицеприятное. И здоровое, – улыбнулся он. – Не напрягайся, на Тибете общаются без слов – люди самых разных рас и национальностей. И даже профессий.
«На Тибете не бывали?» Не у того спрашивал, Сторож.
– Мне не хотелось бы нажить в твоем лице тайного или явного врага. Нам ведь с тобой еще долго быть вместе. Согласись, ведь ты не безгрешен. Вот и давай договоримся, пока на берегу. О тебе я буду говорить в третьем лице, как о Боге, а лучше, как о нашем общем знакомом…
***
Итак, родился малыш в черную майскую ночь. Вся земля была пропитана запахом сирени, а от тишины и беспричинного восторга слезы сами собой выступали на глазах. И были слезы эти прекрасны, как вода – неизвестно откуда – на дне пересохших колодцев.
В огромный мир явился малыш. Явившись на свет, который оказался электрическим, он загадочно молчал, не орал и не плакал, как все новорожденные, развивая криком свои легкие. Признаться, он озадачил повивальных бабок и девок: ведь первое, что надо сделать, когда являешься на свет, – заорать, чтобы тебя услышали. А уж потом, чтобы слушали, надо орать всю жизнь. Это только с того света не докричишься. Малыш часто-часто бормотал губами, точно хотел поведать какую-то тайну, и упорно молчал, пока его не стукнули по сморщенной попке ладонью. И тогда он произнес первое свое слово, которое оказалось древнегреческим: «Эвдаймония». Поскольку медперсонал знал кое-как латынь, классическую и обиходную, состоящую из латинизмов и русизмов, а из остальных языков, за их полной ненадобностью, несколько слов: ленд-лиз, аборт и Гитлер капут, – то «эвдаймонию» отнесли к обыкновенному детскому крику и удовлетворенно улыбнулись.
Когда новорожденному обрабатывали пуповину и перевязывали ее толстой шелковой ниткой неопределенного цвета, младенец вторично довольно явственно произнес: «Эвдаймо-о-ония!», что означало «Блаже-е-енство!» Акушерка перевела: «Радуется!»
Со второго этажа роддома не было видно ни Акрополя, ни золоторунных овец под оливами, так не похожих на шашлык с маринованными оливками, ни бирюзы Ионического моря. Отец мальчика не стоял под окнами, горя медью доспехов, и не было в его руках громадного щита в металлической чешуе и толстого тяжелого копья из пелионского ясеня, а над головой не трепал ветер золотой конский хвост на высоком гребне светлого шлема в бляхах. И мать его не звали ни Ифигенией, ни Ио, ни Электрой, а с Олимпа, в краткие мгновения отдыха от войн и оргий, не свешивались в праздном любопытстве, как с балкона, вглядываясь в первые минуты жизни будущего героя, ни Зевс-громовержец, ни сребролукий Аполлон.
Роддом № 3 находился на Зыряновской улице города Воложилина. Под окнами роддома, на высоком тополе, в клейкой пахучей листве, молча, как ворон, сидел во френче без погон и в полевой фуражке чернявый молодой мужчина, с оторванными двумя пальцами на правой руке и обожженным лицом (он начал и закончил войну на гвардейском миномете «катюша», который поначалу называли «Раисой»). Роженицу, которая, раскинув белые руки, лежала в беспамятстве под капельницей и больше не думала о том, как дышать и как тужиться, и о которой все забыли, звали Машей. И была Маша для мужчины с обожженным лицом после «катюши» – второй и последней женщиной в его жизни, которую он по-настоящему любил.
Из рода же Зевесова самым значительным для этого семейства был начальник новоявленного отца майор запаса Копыто, живший на Второй Продольной и в это время, естественно, спавший. Был он, впрочем, как Зевс, весь в молниях, только американского производства, но громы метать любил, и это у него здорово получалось. Начальник дал Мурлову-отцу отгул на два дня из двадцати пяти, накопившихся за полгода мирной работы, которые он, разумеется, никогда не дал бы, не случись такого замечательного природного события у его подчиненного. В глубине души Копыто, как всякий бог, и себя считал косвенно причастным к происшедшему, на что, уверяю тебя, у него не было никаких оснований. Просто после войны роды – сами по себе – были событием эпохальным, совершенно с другим, противоположным знаком, чем все события на войне, с громадным знаком плюс, к ним были причастны все, даже те, кого навечно приписали к знаку минус, а уж рождение мальчика, будущего воина, будущего строителя, будущего отца, словом того, кого тогда так не хватало, воспринималось со слезами на глазах, из которых война, казалось, выжала, выжгла, высушила все до последней капли и оставила пустыню, в которой страшно хочется пить.
Мальчика назвали Дмитрием.
Астролог – не обязательно Нострадамус или Глоба – сказал бы: судьба сулит ему многое. Но, увы, астрологов мало, так мало, что их и на себя не хватает. Как говорят математики, исчезающе малая величина эпсилон, которой можно пренебречь. Поэтому в начале своего пути Мурлов-сын эту самую эпсилон не встретил, а значит, ничего не знал о благорасположении к нему небесных светил и планет; и судьбоносные линии, бугры и знаки на его ладонях остались без внимания. Говорили, он был вундеркинд. А где вы видели не вундеркиндов? В детстве мы, слава богу, все вундеркинды. В юности все поэты. Потом детство и юность, одно за другим, уходят от нас; за ними также друг за другом следуют чудо и поэзия. И остаемся мы.
***
Скажи, математик, как решить уравнение из двух неизвестных: кто мы? Я вот думаю иногда: встреть я себя семнадцатилетнего, ведь не узнал бы! Не принял! Начни сейчас я жить в обратную сторону, к детству, – где та грань, за которой все другое? Когда идешь сюда – ее не замечаешь. Может, заметишь, когда пойдешь вспять.
– Раки пятятся задом…
– Они пятятся, а здесь – идти лицом вперед, но назад. Это другое. Впрочем, все это так, чушь собачья. Расстройство одно. Продолжу лучше рассказ… – Рассказчик зевнул, прилег поудобнее и забормотал, как дед, рассказывающий сказку. – Ребенок приходит в семью, как варвар в Рим, со своим языком и простым нравом, завоевывает ее без всяких усилий и, как варвар в Риме, растворяется в ней…
Под эти пространные рассуждения я сомлел и уснул, и, похоже, с Рассказчиком мы были в одном сне, так как проснулись одновременно, одинаково разбитые и вспотевшие.
– Приснится же! – пробормотал Рассказчик.
– Кошмары?
– Хуже. Очередь. Пойдем-ка посмотрим, как там. Еще не пустят – скажут, не стояли, или уже провели три переписи.
В очереди все было по-прежнему. Так, незначительные подвижки, как в скальных породах при небольших землетрясениях. У очереди была своя жизнь, своя судьба, свои духовные и биологические потребности и отправления. Казалось, мы ей вовсе не нужны, она прекрасно обходилась без нас, ее породивших. Она спала, тяжело ворочалась, вздыхала и скрипела зубами, от нее шли густые миазмы. Она видела сны и видела кошмары. Она переваривала нас. Из нее торчали во все стороны людские тела, как изогнутые гвозди.
– Чай еще не носили? – спросил краснорожий мужик, глядя на нас одним глазом; другой глаз у него спал, как у Крошечки-Хаврошечки.
– Нет еще, – ответил Рассказчик. – Сначала принесут селедку.
– В гробу я ее видел! – повысил голос Хаврошечка, без особых усилий перейдя на мат и икоту, сопровождая их по-собачьи судорожным почесыванием шеи.
– Потише, пожалуйста, – попросила молодая приятная женщина с ребенком на руках.
– Па-а-ати-ише! Цаца какая! – сказал мужик, перестав икать и чесаться, открыл через силу второй глаз, внимательно посмотрел на женщину и снова превратился в Крошечку-Хаврошечку.
Две седенькие, в аккуратненьких платьишках с вышитыми воротничками и аккуратными прическами старушки интеллигентно беседовали об античном мире, эллинах, амфорах, эросе, эпосе и прочем грекосе. Хаврошечка, слушая их одним ухом и озирая одним глазом, составил о бабках свое одностороннее мнение и, находясь в плену этого мнения, морщился, дергался, тяжело вздыхал, тужась понять ход старушечьей беседы. Когда бабки говорили про мифы и половые связи богов – там была понятна хотя бы суть, хотя эту суть можно было передать гораздо проще и доступными словами; но когда одна из них, Сара Абрамовна, сказала другой, Веронике Михайловне:
– Верунчик, ты вправе ссылаться на эту контаминацию древних космогоний и теогоний или мифологических компендиумов… – у краснорожего заныл мозг от макушки до копчика. Компендиум его добил. Он вдруг окрасился в кумачовый цвет и заорал так, что ни одного слова его нельзя было понять без его же собственных комментариев.
Старушки от неожиданности вздрогнули, свалившись с Олимпа сразу в Аид, и испуганно воззрились на орущего грекофоба. Но тот так же неожиданно, как и начал, кончил орать и, не собираясь никак комментировать свое выступление, натянул кепку на глаза, прислонился к трубе и тут же уснул.
– Страсти какие! – косясь на него, сказала Вероника Михайловна.
– Абсолютно согласна с вами, – поддакнула Сара Абрамовна. – Именно такие страсти лежат в основе всех мифов. Правда, там еще присутствуют боги.
Страшно спеша, как механическая игрушка, мимо проковылял нелепый старичок с палочкой, изогнутая ручка которой лет тридцать назад знала хорошие дни, а сейчас была обмотана синей изолентой. У старичка была многоугольная голова с редкими пучками желтых волос, круглые, по-детски наивные глаза, без ресниц и бровей, и щелка вместо рта. Заметно было, что он выбивается из последних сил, – по затрудненному хриплому дыханию, по дрожащим тонким ногам, по отчаянию в розовых слезящихся глазах.
– Господи! Куда он? – сказала приятная женщина с ребенком. – Его же никто не пропустит. А ведь он – это любой из нас через несколько десятков лет.
Однако старичок беспрепятственно миновал соседнюю группу людей, скорее всего, по причине сна тявкающего сгустка. Но тут ему преградили путь.
– Куда прешь, дед? Остынь, – кучерявый толстяк уперся ему в грудь обеими руками, и тут как тут рядом с ним материализовался тявкающий сгусток, в образе всевидящего глаза, всеслышащего уха, всемелющего языка. Образ этот был неряшливо одет, неряшливо причесан и ежеминутно готов к борьбе. Образ большой обобщающей силы. Образина.
– Пропустите меня, пожалуйста, вперед. Мне трудно стоять.
– Всем трудно, – обобщил толстяк.
– У меня через два часа прием у врача. Вот талончик, – старичок достал талончик. – Вот 12-й номер кабинета, Шушкевич – фамилия врача, время…
– Дед. Мы тут все больные. Ты видел где-нибудь сразу столько здоровых? Вот я, например, к личному психотерапевту. К Собакевичу! Га га га!
Дед не внимал этим доводам. Стоял и качался, как былинка в степи. И все протягивал талончик.
– Да оттащи ты его в сторону! – воскликнул неряшливый образ. – Чего разговаривать с ним! Потерпит!
– Вот пять рецептов, – не унимался старичок. – Вот направление на УЗИ, в лабораторию на анализы…
– Дед, анализы можешь прислать по почте.
– Вот мой паспорт. Это действительно все мои бумаги. Мне обязательно надо к врачу. Мне плохо.
– Всем плохо, – с веселой злостью сказал толстяк. Он вошел в раж.
– Нет, ты посмотри – ему плохо, а нам всем здесь хорошо! – воскликнул неряшливый образ.
– Вот, – дрожащим голосом сказал старичок, – вот, пожалуйста. Я им никогда не пользовался, ни в очередях, ни в столе заказов – мне было стыдно. Но сейчас, поверьте, я не могу. Вот мое удостоверение, – старичок суетливо доставал из нагрудного карманчика зелененькую картонку участника войны, она цеплялась краями и никак не вынималась. Старик со слезами на глазах рвал ее. Наконец вырвал и, развернув, показал всем. – Вот. Вот.
– Еще-о чего-о! – взвизгнул образ. – Захотел чего! Все стоят – и ты стой! Когда только они передохнут! Развелось, как собак! Проходу не дают!
Старичок встал на колени, опираясь на палочку, которая ходуном ходила в его руках. Толстяк заколебался, но присутствие образа мешало ему пропустить старичка.
– Господи! Да что же это! – прошептала приятная женщина.
Я отодвинул Рассказчика – он мешал мне пройти. Толстяк побледнел и отступил к стене. Я помог старичку встать с колен и громко сказал:
– Идите, вас не тронут.
Старичок пошел. Оглянулся. Я помню эти глаза. Они были у моей любимой собаки за день до гибели от энтерита.
– Щедрый какой за чужой счет! – услышал я за спиной резкий женский голос. У меня потемнело в глазах, я развернулся, но в последний миг удержался и не ударил бабу по голове. Почему-то вспомнил Есенина и меньших наших братьев. Отвращение и брезгливость передернули меня.
– Убивают! – заскулил неряшливый образ.
– Сука, – сказал пожилой мужчина с трясущейся головой и плюнул.
«Эвдаймония», – вспомнил я.
Глава 7. Ец-тоц-перетоц, или Якорь ей в глотку. Появление еще одного героя
Скоро сказка сказывается: мы оказались в туннеле с низкими потолками, жиденьким светом от запыленных слабых лампочек и прелой духотой, обложившей тело, как влажная вата. Да, так, наверное, себя чувствуют всю жизнь трубы на ТЭЦ. В больших алюминиевых ящиках привезли теплую селедку. Каждому выдавали по хвосту и головке.
– А середка где? – заорал Хаврошечка. – Сволочи! Куда середку дели?
– Какую середку? – удивилась полная блондинка в белом халате, раздававшая куски селедки крепкого посола. – Вы что, гражданин, не видите: каждому выдаем по тушке. А для удобства тушка разрезана пополам. Вот, – она состыковала хвост и голову и осталась довольна полученной фигурой, – пожалуйста.
– Я щас для удобства пользования разрежу тебя пополам, – сказал Хаврошечка, кровожадно переводя взгляд с фигуры рыбы, больше похожей на морского окуня, чем на селедку, на фигуру блондинки, похожую на рождественскую индейку, – и для удобства воткну твою башку в твою задницу!
Блондинка поспешила убраться подобру-поздорову, возмущаясь невоспитанностью «некоторых» и тщетно застегивая не сходящуюся на талии пуговицу. Подсобники вслед за ней укатили ящик с остатками рыбьих фигур.
Хаврошечка с видом победителя чесал себе грудь с татуировкой, изображавшей женский бюст синего цвета под именем «Роза». Татуировка придавала его груди дополнительный объем.
– Пивка бы, – сказал Рассказчик. – Пошли поищем.
Мы с трудом протолкались к узкому переходу, долго шли по нему, пока не уткнулись в массивную кованую решетку с узорами. Пнули ее пару раз и пошли по другому переходу, пока не уткнулись в тупик с тремя железными дверями, за которыми что-то монотонно гудело.
– Сплошные тупики и тупицы. Давай-ка попробуем «правило правой руки», – предложил Рассказчик. – Старое правило всех кладоискателей и исследователей лабиринтов. Правой рукой не отрывайся от стенки и выход обязательно рано или поздно найдешь.
– Если он есть.
«Правая рука» завела нас в темный туннель с редкими пятачками света. Духота сгущалась и насыщалась гнилью. Жажда наша, понятно, только усиливалась. Потолок стал давить, туннель с легким уклоном вниз уходил в черную дыру. «Как в пирамиде, – подумал я. – Так же давит, пустота и жара». Рассказчик подобрал деревянную рейку и тюкал ею перед собой, чтобы ненароком не загудеть в какую-нибудь яму. За очередным поворотом забрезжил свет. Земляной, а где и с кирпичной кладкой туннель был засыпан землей, завален щебнем и битым кирпичом, забаррикадирован кусками рельсов, искореженными вагонетками, – казалось, он был заброшен давным-давно. Но возле стены стоял лом, валялись две совковые лопаты, и было заметно, что здесь недавно копали. Резко похолодало, и мы через пять минут залязгали зубами. Озираясь по сторонам, мы осторожно пробирались через завалы, перешли по шаткой доске через яму. Несколько камешков упали в воду. Из стены вышла мужская фигура и стала молча смотреть, как мы приближаемся к ней. Она была при костюме и в галстуке. Поздоровалась с нами.
– Выход ищете? Давайте покажу. А то шею сломаете. Или сломают, ха-ха…
Земляной человек (земляк) был мрачный, но словоохотливый, и от этого сочетания было как-то не по себе. Он уверенно шел среди куч хлама, не замолкая ни на минуту.
– Вон там, под самой крышей, раньше было окно, сейчас его заложили, в гражданскую в него влетел снаряд и прямо вот сюда.
– Что-то следов не видать.
– Хе, это такие кирпичи, такой раствор, такая кладка. Им не то что снаряд, им бомба нипочем. Тут многие пытались разбить эти стены. Черта с два. А вот ребятки мои, дети подземелья, хе-хе, эти кирпичики запросто разбирают. Я тут начальник участка. Ремонт и реставрация. Еще два миллиона надо освоить. Вон там, – он ткнул пальцем под ноги, – еще один туннель идет. Он, правда, засыпан. Там контрразведки любили размещаться (и белых, и красных) – все друг друга пытали, не могли допытаться, куда эшелон с золотом пропал. Здесь и так-то тихо, но бывают минуты, когда особенная стоит тишина, и тогда слышны крики пытаемых. Приходите как-нибудь ближе к ночи, послушаете. А золотой эшелон был, точно знаю. В город вошел, из города не вышел. Ни вагонов, ни ящичков, ни конвоя. Никого и ничего. Интересно, правда? До сих пор ищут. Думают, здесь где-то спрятано. Вон сколько раскопок и долбежек…
Меня вдруг осенило, а не за этим ли золотишком заслал меня сюда Горенштейн?
– Вы графа Горенштейна случайно не знаете? – спросил я у словоохотливого начальника участка.
Тот внимательно посмотрел на меня и уклончиво ответил:
– Да кто ж его не знает?.. А вот тут взрывали, вместе с собой. Зимой сюда даже мэра занесло, с его ребятами. Ух, пройдохи! В касках, с фонарями! Посмотрели, полазили, пощупали, посовещались и ушли. Тут же рученьками надо работать, а не головой. А без чертежей – чего тут делать? Вот тут осторожней. Труп. Никак не уберут. Не поделили чего-то. Каждый день кто-нибудь шарашится. На авось. У меня-то чертежи есть, дореволюционные еще. Да и по ним ни черта не найдешь. Все перемешано. Недавно дедок один, умненький такой, с бороденкой, кейсиком, в шляпочке с перышком, очечках, все допытывался, не знаю ли я как строитель, сохранились или нет чертежики подземных коммуникаций, и где они могут быть. Как же, чертежики ему! Папочка его до революции, видите ли, был тут хозяином, и теперь благодарная сыновняя память привела его на развалины отчего дома. В слабой надежде найти хоть что-нибудь на память. Материальное. Хотя бы кирпич. И чудной такой акцент у старикашки. Не будете ли вы столь великодушны, говорит, оказать мне неоценимую услугу и вместе с тем оказать честь… Та-та-та, та-та-та… Короче, чертежики нужны… Нет, говорю, увы, какие чертежики, когда от дома-то ни черта не осталось. Ушел разочарованный. Но на прощание попросил посодействовать ему в поисках, а уж он, будьте любезны, в долгу не останется. Я даже расшаркался перед ним… А вот и выход. Идите прямо вверх, потом по коридору и направо. Там смотрите, после третьей ступеньки сразу шестая идет, двух нет, – он помахал нам вслед рукой и долго смотрел, как мы поднимались по пожарной лестнице.
И снова обложила нас ватная духота. Пока искали свою очередь, опять захотели пить. Чего не попросили воды у золотоискателя – не чертежики, в конце концов, дал бы напиться? А то и банку с водой подарил бы…
Вот и «наши». Нас окружили со всех сторон, но увидев, что мы без воды, очередь дернулась, как железнодорожный состав, и медленно поползла по нескончаемым коридорам. И каждый был поводырем каждого, и каждый думал только о себе.
Стало совершенно невыносимо, как в бане. Из толстой трубы впереди сифонил пар. Обернув тряпкой плафон, Боб подставил его под струю пара. В банку закапала горячая вода. Его окружили со всех сторон. Некоторые улыбались, как пьяные. В глазах жаждущих было ожидание и руки невольно тянулись к банке.

