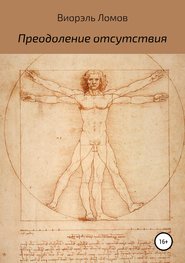
Полная версия:
Преодоление отсутствия
Действительно, так оно и случилось: самовозгорался воздух в глубине туннеля и постепенно, как ракета, гас, явственно слышались шаги, но никого не было видно, а тут еще вторично Веронике Михайловне и Саре Абрамовне тот же тонкий сипловатый голос опять под утро сообщил, что Билл Клинтон – президент. Но на этот раз их наполнил почти мистический ужас, когда голос три раза отчетливо повторил: «Компендиум!» Саре Абрамовне вдруг показалось, что она слышит голос своего учителя Зильберштейна, умершего еще в 1955 году и с которым она была достаточно близка по научной части. И она сказала об этом Веронике Михайловне, почему-то перейдя на шепот:
– Мне еще в прошлый раз, Саруня, показалось, что это голос Мишеньки: те же интонации, тот же тембр, то же изящное грассирование.
Пошептавшись, подруги уверовали в реальность потустороннего голоса и тут же припомнили массу аналогичных фактов из жизни мифических и легендарных личностей. Ахиллес, да-да, или, конечно же, Орфей! И реальные люди: Жанна д’Арк, например, или тот же Иван Грозный! Да-да, ты совершенно права, Верунчик, совершенно права, Иван Грозный! Да-да.
Их таинственное перешептывание давно привлекало внимание убогих старушонок, и они приложили все свое профессиональное мастерство и сумели таки подслушать почти всю их беседу. Старушонки еще с первого вечера думали сойтись с Саруней и Верунчиком, но ученые дамы, заметив это, тут же отгородились от них непроходимым частоколом энциклопедических знаний.
Через пять минут весь туннель знал о явлении этой ночью самого Ивана Грозного. Понятно, слухи распространялись в туннеле со скоростью пешехода, удивительно только было, как эта скорость велика. Старушонки истово клялись и божились, что где-то под утро, когда всех сковал непробудный сон, они, по своей старости просыпающиеся чуть свет, увидели, как из темного чрева туннеля, весь в слабом синеватом сиянии, с длинным посохом, в острой бороде и в царской шапке, величественно вышел сам Иоанн Васильевич Грозный, государь всея Руси.
– Вот он где прячется, – сказал Рассказчик. – И был лик его грозен и нахмурен, а под глазами легли синие тени.
– А у него там, в руках, кроме посоха, колбасы случаем не было? Какой-нибудь, черт с ней, кровяной? – спросил Боб.
– Господь с тобой! – ахнули бабки. – Какие слова ты говоришь окаянные!
Однако слух о явлении грозного царя прочно осел в умах путников. Причем все уже были уверены, что он явится непременно с колбасой. Многие, просыпаясь среди ночи, осторожно приоткрывали глаза и с замиранием сердца изучали приевшийся до тошноты интерьер. Царь больше не приходил. Видимо, не отпускали на прогулку государевы дела. А может, в шестой зал подался…
– Я уже говорил, – сказал Рассказчик, – истинно великие люди редки, а уж явление их нам, людям простым, вещь вообще уникальная и, что характерно, случается она с самыми простыми из простых, самыми бесхитростными и безгрешными. Так что вам, бабушки, крупно повезло. Как только достанем бумагу, обязательно оставьте записи потомкам.
Старушонки мелко и часто крестились, а Сара Абрамовна с профессиональным интересом расспрашивала их о таких подробностях, как цвет глаз или форма носа монарха, совершенно не подозревая, что об этом ей было лучше спросить у самой себя. Цвет глаз, кстати, оказался «черным, со стальным отливом», а форма носа «как у грузина или еще кого, клювиком».
Таинственную фигуру все-таки увидели еще раз. Место было темное, но различить хотя бы контуры тела было можно. Среди ночи опять-таки заорали бабки. Через них, спящих, кто-то перешагивал, подобрав полы царственной мантии. Решив, что это царь, старушонки, после первого своего естественного ора, возбужденно и нечленораздельно и запричитали. Все проснулись и увидели, как в проход метнулась коренастая фигура, отнюдь не в царской мантии.
– Какой-то оборванец, как мы, – сказал Борода. Он был крайний к проходу в нашей честной компании. – Что-то черное и, похоже, бородатое.
– Туннельный человек! – хохотнул Боб. – Пора приглашать телевидение и кинохронику. А как насчет следов? – и он, юродствуя, сделал вид, что ползает по полу в поисках таинственных следов. – Ты смотри, нашел!
– Что? Что?
– След, вместе с туфелькой, – Боб поднял рваный башмак. – Ну, Золушка, берегись! Теперь у тебя есть жених!
– Засылай, Боб, сватов. Вот только куда?
– Сам придет, – ответил Боб.
– Его надо чем-то заманить, – предложила Сара Абрамовна. – Едой, например.
– У вас есть еда? – серьезно спросил Боб. – В таком случае, я лично берусь за поимку царя вместе с Золушкой. На меня и на них – три пайки, пожалуйста!
– Нет, – сказала Сара Абрамовна. – Еды у меня, к сожалению, нет. И знакомых, чтобы достать ее тут, тоже нет.
– Жаль, жаль…
– Но на уровне идеи, – продолжила Сара Абрамовна.
– Идея хороша, – согласился Боб. – У кого еще есть идеи? Учредим банк идей!
Идей было много, и предлагались они с жаром, точно речь шла о поимке вепря. Но в конце концов разум восторжествовал: не надо ничего делать – сам придет.
– Я же вам говорил! – сказал Боб. – Куда он денется?
Так оно и вышло. Народ, в массе своей, всегда мудр и прозорлив…
Я уже почти уснул. Как говорится, душа уже отлетала. И тут – кто-то появился из темного проема, скользнул мимо спящих, наклонился над Сестрой. Я схватил его за ногу. Он молча дернулся, но я держал крепко и силой усадил «привидение» рядом с собой. По кепке я узнал Хаврошечку.
– Что у тебя там? – спросил я; он разжал руку, в ней лежала мягкая сморщенная картофелина. – Где ты все это берешь?.. Ладно, хватит прятаться от всех, давай спи.
Хаврошечка расслабленно прислонился к стене и тут же уснул. Утром на него никто не обратил внимания, только Боб между прочим спросил: «Как командировка?» Я незаметно отдал Хаврошечке его башмак.
Сиплый же голос, как ни странно, опять под утро сообщил, что «московское время тридцать часов», опередив, таким образом, фактическое более чем на сутки. Оказывается, лгал самым бессовестным образом волнистый попугайчик. Он сидел в коробке и сипел из нее в щелочку. Кешу всю дорогу прятал в коробочке его хозяин, пожилой мужчина с трясущейся головой, опасаясь, что если его обнаружат, то съедят вместе с перьями. Иногда он проветривал коробочку, и однажды Кеша вылетел и порхал в темноте, напугав старушонку, пока случайно не приземлился прямо на голову хозяину. Тот подставил ему палец и осторожно переправил Кешу в его домик. Кешу есть не стали. Даровали ему жизнь и даже выделили однокомнатную квартиру из палочек и проволочек. Сестра прикрепила осколок зеркала, и Кеша то и дело прихорашивался возле него, из чего все заключили, что это не Кеша, а Лукерья.
Глава 13. Сон в летнюю ночь, или Были «Голубого Дуная»
Назавтра Рассказчик был более жив, чем мертв, но рассказать ничего не смог. Сказался резко-континентальный климат подземелья и лишения кочевой жизни. Он совсем потерял голос и надсадно кашлял. У него внутри сипело, взрывалось и клокотало. Видно было, что у него болит грудь, шея, голова, но он, молодец, пробовал улыбаться. Хотя не мог спокойно смотреть на то, как ветер уносит мгновения жизни, не наполненные словами, будто дым костра. Для него слово было и в начале, и в середине, и в конце, и вместо. Оно должно было гореть, трещать, согревать. Сладкое заблуждение. И я предложил ему послушать мой сон.
– Что за сон? – оживился Рассказчик.
– Сон как сон. Немного странный. Про новорожденного мальчика. Про то, как его принесли из роддома, а в него тут же вселилась душа Дон Кихота.
– Идальго Кехана? Тебе приснился такой сон? Интересно. Не иначе как на тебя произвел впечатление мой рассказ об «эвдаймонии».
– Не иначе. Не напрягай голос. Слушай. Когда он родился и его принесли на пятый день домой, в него вселилась душа Дон Кихота. Алонсо Кихано, если угодно. На то есть два очевидца. Я разговаривал с ними – их можно всегда найти на Стрельбищенском жилмассиве возле «Голубого Дуная», что рядом с железкой и гаражами. Это вечные очевидцы. Потому что они вечно торчат там. Ты знаешь, где «Голубой Дунай»?
– Знаю. Только какой, к черту, он голубой, если коричневый?
– Да, сейчас это металлический гараж, в котором продают пиво, и цвет у него действительно бурый, но раньше это была деревянная избушка, выкрашенная в голубой цвет. Этот цвет и изобилие пива и дали имя ларьку. Так вот, и в тот раз я застал очевидцев на двух чурбачках возле «Голубого Дуная». Это приличные старички годков под семьдесят. Как сейчас помню, рядом с ними сидели на покрышке от газика два мужика, еще вполне репродуктивного возраста, один держал между ног ведро с пивом, заглядывал в него, причем так, что лицо погружалось в пиво, потом вскидывал голову вместе с брызгами на приятеля и говорил: «Ну, хошь, секи! Секи мне голову напрочь!» Приятель хмуро молчал, мужик же долдонил: «Нет, ты посмотри: пиво – дерьмо, ведь половина – вода, вода! А я второе ведро пью!» Приятель же, как всякий сторонник срединного пути Будды и по примеру Орода, о которых он скорее всего не знал ничего, по пути Будды и по примеру Орода, со словами: «Ты жаждал – так пей же, сволочь!» – окунал голову друга в ведро. Он хотел сказать, что тот малость переборщил, взявшись за второе ведро, поскольку ведро было для них той самой разумной мерой, которой так любили пользоваться древние. У древних она была чуть-чуть побольше, что-то около тринадцати литров, ну да народ сейчас измельчал и мера стала поменьше. Так вот, выпил я вместе с очевидцами пивка, и они рассказали мне, как сорок пять лет назад (или, постой, пятьдесят? Да-да, пятьдесят) они видели, нет, скорее были именно свидетелями того, как в ребенка вселилась душа Дон Кихота. Сказали, что могут поклясться в том на Библии. Поскольку Библии под рукой не было, я им поверил на слово.
***
Младенец с матерью находились в комнате, а они (очевидцы то бишь) с его отцом сидели за кухонным столом и решали, кем ему быть. После того, как они перебрали около литра профессий, сошлись на мысли, что сын будет, как и они – слесарем или строителем. Какой-никакой, а заработок, и все что надо – под рукой и в руках. Закусив «слесаря со строителем» капусткой, они услышали вдруг, как из комнаты донеслось негромкое ржание и крик погромче, будто кто-то задыхался. И тут же восклицание жены, звон разбитого блюдца, плач ребенка. И снова крик, прямо-таки душераздирающий, каким могут кричать только ослы. Решительно отбросив из-под себя табуреты, все трое разом протиснулись в комнату, но никаких лошадо-ослов не увидели, мало того, не было даже их запаха. Решив, что это все им почудилось, ну, иначе просто чертовщина получается, друзья было направились к кухонному столу, но жена спросила их:
– Вы что же это, нарезались до ослиного крика? Спать не дадут! – чем страшно обидела мужиков.
Не успели они сформулировать достойный, но мягкий, не травмирующий молодую мать, ответ, как снова крикнул осел, хотя они все трое молчали. И тут же в углу загремело то ли ведро, то ли корыто, кто-то чертыхнулся, оступившись, и ясно произнес, причем по-русски (ты сейчас поймешь, почему я обращаю твое внимание на этот момент):
– Ты не прав, Санчо. Это он. Мы с тобой у цели. Наконец-то я отдохну.
– Ради всего святого, государь мой! – завопил другой голос, погуще и потолще, и тоже по-русски. – На кого вы меня оставляете? На этого осла? Ведь ваша милость обещала мне, что я от вашей особы не отойду ни на шаг до скончания века!
– Вот этот век и кончился, Санчо. Не беспокойся. Я тебе, мой верный друг, вручаю моего Росинанта, заботься о нем, как обо мне, – он заслужил это. Не жалей ему лишний клок сена – смотри, как у него выперли ребра! Прощай, мой верный Санчо. Соскучишься – черкани пару строк.
– О, мой господин! – с горечью воскликнул оруженосец. – Ради самого Христа, вы что, забыли – я даже и читать-то не умею!
– Научишься, Санчо. Я уже говорил как-то, не помню, записал это Мигель или нет, я говорил, что умственный труд выше телесного. И – поверь мне – можно научить читать даже осла, если на короткое время заставить поверить его в то, что он не осел. Прощай же!
– Сеньор! Вас опять заколдовали! О, горе мне! Горе! О, нет, нет! Боже милосердный, коли ваша милость прогневалась на доброго вашего оруженосца за то, что он вечно говорит одни только глупости, отрубите ему лучше голову, говорящую эти глупости, но не гоните от себя!
– Напрасно ты так думаешь, друг мой. За что мне гневаться на тебя? Это ты прости меня, я не всегда был ровен с тобой. Рыцарь должен со всеми быть ровен, хотя он и никому не ровня.
– О, Рыцарь Печального Образа! Возьмите меня в любую глухую местность, и я там буду вместе с вами с корнем вырывать деревья, убивать пастухов и угонять кобылиц! Я буду вместе с вами валять любого дурака, какого только ни прикажете! Я буду, как и вы, ваша милость, буйным сумасшедшим!
– Санчо, сын мой. Успокойся. Тело мое еще попутешествовало бы по этому свету, но душа вот захотела увидеть свет иной. Прощай – и помни обо мне. Прощай и ты, мой славный одер. Прощай и прости: я меняю тебя на одр. Считай, что я отсек от тебя ненужную букву. Ты ею, кстати, уже забыл как и пользоваться. А в остальном ты по-прежнему со мной, мой благородный Росинант.
– О горе мне! Горе! Горе! – голос Санчо стал удаляться, стихать, стал стихать и топот копыт его осла и одра Росинанта, пока не стихли совсем.
– Вот я наконец-то один, – послышался удовлетворенный голос Дон Кихота. – Вот и конец моим странствиям. Прощай, моя несравненная Дульсинея Тобосская! Догнали борзые зайца – не увижу я больше тебя! – пустота покряхтела, повздыхала и молвила: – Прилягу-ка я вот здесь, рядом с этой живописной картиной. Достопочтенная синьора с младенцем. О, Мадонна! И три кавальера. Намалевал тут живописец! Не мог побольше ночлежку нарисовать. Э-хе-хе. Это и будет теперь мой ночлег.
– Однако! – сказал муж достопочтенной сеньоры с младенцем и поглядел на друзей. Кавальеры ошалело молчали, и у них не было ни в одном глазу. Сама же синьора, справившись с ужасом, набросилась на муженька с дружками:
– Допились, черти, до белой горячки! Чтоб провалиться вам всем на этом месте!
– Тю, ты чего, сдурела? – отозвался муж, но вполсилы. – Ты сама-то слышала?
– Ну…
– Что ну? Ну, ну! Баранки гну. Раз слышала, значит, горячка белая и у тебя, а это, поверь нам всем, – он обвел неуверенным взглядом трезвых как стеклышко друзей, – ну никак невозможно! Не было еще такого на русской земле!
Что там говорить, не только на русской, но и ни на какой другой земле случаев коллективной белой горячки еще отмечено не было.
– Не мешайте мне спать, любезные кавальеры! – пробурчал голос. – Шли бы вы в корчму, на кухню! И не прекословьте мне!
Мужчины на цыпочках вышли на кухню. Кухня показалась им вдруг страшно маленькой. Подхватив ребенка на руки, следом за ними выскочила и жена.
– Доставай, где ты спрятала бутылку? Давай, давай! Тут без поллитры точно не разберешься. И капустки, капустки подбрось. Там еще одна банка оставалась.
– Иди ты к черту! – шепотом огрызнулась жена. – Сам сидит, сеньор кавальер, хоть бы ребенка взял от меня! Как я одной рукой?
К ребенку с готовностью протянулись шесть рук.
– Да тише вы, осьминоги, осторожней! – отдав ребенка, она наложила в миску капусты из банки. – Последняя! – и принесла откуда-то бутылку белой. Подойдя к двери в комнату, она наклонила голову, прислушалась. – Тихо. Спит.
И тут ребенок зевнул и сказал: «Е-мое, как хорошо!»
Мужчины молча отбили сургуч, разлили, хмуро чокнулись и, не глядя друг на друга, опрокинули стаканы в глотку. Послышалось пятнадцать глотков, после которых яростно заработали челюсти, капуста хрустела и вскрикивала на зубах. Ошалевшие мужики глядели то на ребенка, то на мать и не знали, чем занять мысли и руки. У матери же, по причине невозможности выпить, поехала крыша. Когда пришло время кормить ребенка, она прошептала:
– Я боюсь.
– Чего ты боишься, дурочка. Не укусит.
– Да я не его боюсь, – она указала мизинцем на ребенка, – а того, – она ткнула большим пальцем в сторону комнаты. Три средних пальца у нее были прижаты к ладони, будто она предлагала защитникам выпить еще. Что предлагать – ты дай!
– Щас мы с ним разберемся! Ща-ас! – муж подтянул ремень. – Айда, ребята! Надо же, дома как на фронте!
Ребята, взяв в руки по табуретке, вошли в комнату. Тут они выстроились вдоль стены, не зная, что делать дальше. Фрицев не было. В комнате стояли койка с привинченными блестящими шарами, шифоньер, стол и два стула коричневого дерева, сундук с дореволюционным добром, этажерка с десятком хорошо известных книг, висел репродуктор и коврик с грозными львами на берегу озера, поросшего камышом. С потолка свешивался богатый желтый абажур с кистями. На полу стоял на колесиках будущий конь сына. Разбираться было не с кем. Табуретки не пригодились.
– Ты слева заходи, ты справа. А я прямо пойду, – скомандовал муж.
– Осторожно. Не наступи! – попросила жена.
– Не дрейфь, – сказал муж. – Проверено, мин нет.
Только друзья сделали по шагу, она опять воскликнула:
– Стойте!
Мужики замерли.
– Может, участкового позвать? А то потом отвечай за этого невидимку.
– А и так отвечать надо будет, – сказал муж. – Почему-то Он не к соседям, а к нам на ночлег устроился.
– А почем ты знаешь, может, Тот, с ослом, как раз к соседям и завернул. Хорошо еще, Этот кобылу свою Тому отдал.
Разумный довод супруги, особенно в той части, что Тот завернул с животными к соседям, поколебал намерение мужа немедленно расправиться с непрошеным гостем, тем более что сделать это было весьма затруднительно.
– Вась, смотай-ка за Прокопичем. Он через дом живет.
– Да знаю, – сказал Вася и помчался за государственной помощью.
Подмога, в лице Прокопича, с порога потянула воздух чутким милицейским носом, насмешливо поглядела на сопровождавшего ее Васю и всю честную компанию и констатировала:
– Белая особая. Капуста квашеная. Сапоги кирзовые. Запаха осла и железа не усматриваю. Рецидива преступности полное отсутствие. Резюмирую: пить надо одну на троих, ну две, а не три.
– Прокопич, обижаешь! Где их взять, три?
– Вам виднее, где взять. Чего смеяться-то? Вон на подоконнике три пустые бутылки. С ка-а-апельками на дне. И запахом, им свойственным.
– Вроде все до капли вылили, – сконфуженно промолвили друзья.
– Смотрите у меня! Конспираторы! – сказал Прокопич и, козырнув, ушел.
– Да, братцы, посмешищем стали! Теперь, чего доброго, на собрании разбирать начнут за наш образ слуха.
Гости быстренько разошлись по домам, а молодая семья так и промаялась до утра на кухне.
Утром ничто не напоминало о вчерашнем явлении. Голос исчез, как и не было его. Даже обидно как-то, ей-богу! А сын стал расти не по дням, а по часам, и уж шибко был рассудительный и знающий. Но держался со сверстниками ровно.
К счастью, Прокопич не проболтался, все-таки это был его участок. Иначе подтверждение этому факту можно было бы найти не только на чурбачках возле «Голубого Дуная», а где-нибудь на пожелтевших страницах местной газеты или, боже сохрани, в какой-нибудь папке с фамилией и номером…
***
– Ну вот, – расстроился Рассказчик. – Ты, оказывается, и сам хорошо помнишь свое рождение, первые дни… А я так распинался в прошлый раз! Копыто! Эвдаймония! Мог бы сказать… Впрочем, прощаю, детство и юность – это суета. Я расскажу тебе о Фаине. Тут ты не должен всего помнить…
Глава 14. Помогают ли юным девам советы блаженного Иеронима Стридонского
– Так и быть, слушай о Фаине, – промолвил Рассказчик. – Только не обессудь, буду говорить тихо. Там, где надо говорить, как с трибуны, я буду делать ремарку: «Пафос». Представь: мы идем где-нибудь по Ионическому морю, и справа или слева по борту проплывает остров. Остров Пафос! – Рассказчик внимательно посмотрел на меня. – А ты сам-то ощущаешь в себе его душу?
Я промолчал. Рассказчик удовлетворенно улыбнулся.
– Итак, – продолжил он, – Фаина Васильевна. Девичья фамилия – Сливинская. Отец – академик, мать – красавица полька, вернее, по-старому, полячка из старинного рода польских магнатов Асташевских. Но сначала, для затравки, как это делается в приличных домах – перед выпивкой подают закуску, сначала немного о предках. Начнем с предков со стороны матери, а потом уже со стороны отца, по матушке предки корнями ушли глубже, дольше выкапывать. Упоминание о Станиславе Асташевском можно найти в хрониках первой четверти ХVII века, как раз, если помнишь, у нас было время смут, Лжедмитриев, народных ополчений, Ивана Сусанина. Можно спорить о том, был Сусанин или не был, умер он за царя или отечество – эти факты, как технические условия на газовые турбины и унитазы, пересматривают каждый год все кому не лень; а вот Асташевский был точно, и ни в каких пересмотрах не нуждается, оттого что он никогда не продавался и на нем некому было спекулировать. Но сведений о нем, повторяю, можно найти множество. Он был богач, красавец, бретер. Конь, сабля, кубок и паненка были с ним неразлучны. Он иногда в запале мог их и попутать. «Черт попутал!» – восклицал он, когда наутро обнаруживал, что ночью отстегал плеткой паненку, и, раскаявшись, целовал любимую кобылу в губы. Кобыла только скалила зубы. Но не кусалась. Следующие три века не изменили существенно характер и внешность ясновельможных панов Асташевских. Разве что лысеть они начинали в XVIII столетии после пятидесяти лет, в XIX – после сорока, а в XX – уже к тридцати. Но рождались по-прежнему все лысенькие, головастые и крикливые. По народным приметам: пузцо сытенькое, голова тыковкой – генералом будет. Так и бывало. Что же касается женской половины этого рода – все пани были исключительные красавицы. А красавицы – они всем красавицы, потому всем и нравятся. Говорить же про ум и нравственность красавиц, как ты знаешь, не умно и не нравственно.
Отец Сливинского, Николай Васильевич, окончил Петербургскую духовную академию. Прекрасная память, широкая образованность, интеллигентность, великолепный голос и стать сулили ему приличный духовный сан, блестящую карьеру, счастливое будущее. Но карьера у него, увы, не сложилась. Человек предполагает, а Бог располагает. Жизнь бросала его по свету, по городам и епархиям – нигде он не приживался. Правда хранит непорочного в пути, оттого и путь у непорочного бывает так долог. Время было беспокойное и смутное, как и три века назад, как и у нас. Я же говорил, что оно застыло в нас, несправедливое и непонятное. По прошествии лет Сливинский понял, что время – это тоже проявление Его, и оно тоже бесстрастно, как Он, и одинаково справедливо ко всем; но тогда ему казалось, что к нему время было особенно несправедливо. Да и разберись тут со временем, когда времени ни на что не остается: с одной стороны, на слуху все громкие, то прославляемые, то проклинаемые, имена – отлучение графа Толстого, открытие мощей Серафима Саровского, явление бога во плоти Иоанна Кронштадтского и плотского диавола (а может, ангела?) Григория Распутина; а с другой – обычное людское болото, безбожные погромы евреев, осуждение иоаннитов, воровство, мздоимство, лжесвидетельство, чревоугодие, праздность, косность, ложь, злоба, и все, все погрязли в свинстве, пьянстве и провалились в пропасть блуда. И те, кто больше всех погряз и провалился, громче всех взывали к богу с просьбой покарать грешников. И все окаянные жаждали нового Мюнцера.
И Мюнцер пришел. В один год все пошло вверх тормашками, и настали черные красно-белые года, с лицами, перекошенными в морды и хари, с диким храпом несчастных лошадей, с голодом и холодом, и всюду были одни начальники и не было ни одного закона. И всяк был лишен его доли – всяк был лишен наслаждения делами своими. И каждый пролил кровь каждого, и бегать теперь каждому до могилы от самого себя. А потом и детям их, и внукам, и правнукам. И никуда не убежать. И не осталось ни у кого ни чести, ни честности, ни гражданственности, ни доброжелательности, ни милосердия, ни непорочности. Страх создал богов. Страх богов и погубил.
И пошел Николай Васильевич по белу свету вослед за белыми, и осталось позади него вместе с красными красно солнышко, а в душе его черным-черно с тех пор, сажа одна, копоть да пепел. И понесло Сливинского, закрутило: Всероссийский поместный собор во главе с епископом Тихоном, Карловицкий собор в пупе зла, в Югославии, на котором митрополит Антоний Храповицкий истово грозил и без того голодной Красной России голодной смертью, – и тоска была, тоска, безысходная тоска по дому (нет, не ностальгия – это гнусное, не русское слово, что оно может сказать о яростной тоске русского, выброшенного за шиворот из дома!), безысходная тоска по трехцветной, трехлинейной, трехэтажной нищей богатой России, по жене и детям, по единственному счастью в этой проклятой жизни – душевному спокойствию, которого, как он знал, уже не будет никогда. Где его было взять, это душевное спокойствие, когда и души-то не осталось в теле, а одна угольная чернота и копоть. После долгих мытарств по Балканам, Польше, мостовым и набережным Парижа, где он чуть было не остался вечным клошаром, так как Париж все же стоил Балкан и Польши, а главное, был добрее, как ни странно звучит это слово применительно к изгоям, Николай Васильевич попал наконец домой, со шрамом на голове, с вытекшим глазом и выбитыми зубами, без денег, без прежней веры – нет, не в Бога, в людей, – а значит, и без будущего. Домашний скарб был никакой, но Николая Васильевича тронуло, что жена сберегла в мирских скитаниях практически все его естественнонаучные, богословские и философские книги и журналы, подборкой которых он любовно занимался с отроческих лет. И даже все его тетрадки и разрозненные листочки хранились перевязанные по папкам и просто в стопках. И он впервые понял тогда, что образ жены, с которой он всю жизнь мучился, но к которой рвался, и скромно одетая женщина с потухшим взором и жалкой улыбкой, которой уже трудно было свести с ума какого-нибудь обнищавшего князька или удальца офицерика, – это одно и то же. И тогда только мир вошел в его душу, о котором он и думать уже позабыл. И он стал учительствовать, преподавая все, что придется, так как приходилось учить мужиков и детей этих мужиков ab ovo, с азов; глаза учеников были голодные и полны надежды, но было ему непонятно, кто же будет строить будущее в стране, лишенной настоящего. И ему горько было от всеобщей чисто плебейской жажды разрушения. «Бог мой, кто возвысит эти заблудшие души, кто укажет им достойный пример, кто даст им прекрасные цели? Прав святой Августин, – думал он. – Бог разделил людей на избранников и проклятых не по их заслугам или грехам, а по своему произволу. Все одинаково заслуживают проклятия. Россия – проклятая страна. Но это Родина. Это дом. Это, в конце концов, погост. Не будем посему роптать». И он безропотно, тихо и незаметно, как верба у реки, доживал свой век, и, может, его счастье, что умер он в 1932 году, а не в каком-нибудь другом, и не вошел в число двухсот тысяч расстрелянных священнослужителей, и никто не привел его посмотреть на то, что сталось после него, и могилка его затерялась, и не осталось на земле и следа от того, кто когда-то хотел помочь людям стать благочестивыми и быть выше обстоятельств. Остался ли след еще где – нам ли о том судить?

