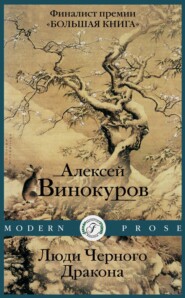
Полная версия:
Люди черного дракона

Алексей Винокуров
Люди Черного Дракона
© Алексей Винокуров, текст, 2023
Предисловие
О девочке этой мне рассказала Бабушка Древесная лягушка. Столько лет прошло, и нет уже ни девочки, ни бабушки, одна лягушка осталась и дела ее скорбные.
Бабушка-лягушка, лягушка-квакушка, лягушка-какашка, лягушка-замарашка – вот как ее кликали в деревне. Ни на одно имя не отзывалась, да никто и не надеялся. Имена такие давали нарочно, чтобы, оборони Будда, не съели за компанию с другими: кто же в своем уме станет есть лягушку-какашку? А бабушку-лягушку? Ел ты, скажем, лягушку, а съел, выходит, бабушку. Может, конечно, где-то в Поднебесной такие ухари и были, чтобы жареную бабушку съесть, да еще со стороны отца, но только не у нас, на Реке Черного дракона.
На самом деле лягушка из бабушки была никакая. Обычная жаба, только огромная и старая до черноты, глаза навыкате, рот – похабной щелью, на скользкой коже пупыри с бородавками, рукой потрогать противно, не то что голыми зубами есть. Жила от всех отдельно, хозяйства никакого не вела, безобразила в глухой ночи, промышляла, чем Бог пошлет. Детей, мужа тоже не завела. И неудивительно – кто на такую польстится? Хотя китайцы, говорят, к красоте женской равнодушны – им лишь бы человек хороший да денег много. Но Бабушка Древесная лягушка ни деньгами, ни красотой не вышла – хоть в речной песок ее сапогом топчи, такая была никудышная.
Когда в первый раз мы с ней встретились на узкой дорожке, лет ей было невесть сколько, глядела исподлобья, пенсионером. Значит, не меньше шестидесяти выходило, ну, или около того – с каких там лет жабы-лягушки выходят на заслуженный отдых?
День, помню, был солнечный, зайчики трепетали на зеленых кленовых листьях, под ветром срывались, падали, обратно запрыгивали. Бабушка-лягушка сидела у дома на шершавой приступочке за поваленным тыном – зеленая сидела, бурая, бугристая и скользкая – чистая жаба. Торчали из приступочки острые занозы, кололи тонкую кожу, подзуживали, бодрили. Ежилась Бабушка-лягушка, ворочалась, дула зоб, пучила глаза, слизью исходила, семечки беззубой пастью лузгала, а сказать так ничего толком и не сказала – может, не могла или, еще хуже, не хотела.
Но не больно-то и нужно. Я и сам все знал про эту девочку, потому что рос с ней в одном селе, только я – в русской части, а она – среди амазонок.
А насчет присказки про Бабушку-лягушку, – это уж так положено во всякой истории. Или бабушка-лягушка, или зайчик-побегайчик, или какой ни то хомяк с печки бряк – так вот оно и повелось испокон веку. А от своего лица историю рассказывать не смей, потому что никакая уже это будет не сказка, а чистая правда. Вот ее, пожалуй, и расскажем.
Бытие
Село наше, по имени Бывалое, выросло на реке.
Черного дракона, или, по-русски сказать, на Амуре, прямо из сырого речного песка. Стояло на берегу, на выносе, мировое древо, тысячелетний кедр, отовсюду было его видать. Вокруг него стелились равнины, вздымались белыми шапками горы, тянулись вверх дремучие леса, зеленела в них пихта, клен, кедр корейский, ясень маньчжурский, ильм белокорый, орешник и береза желтая, липа амурская, бархатное дерево да рябина. В лесах этих испокон веку водились тигр-амба, медведь, барс, рысь, красный волк, кабан, дикие козы, изюбри и пятнистые олени, кабарга, соболь, и так далее – до мышей-землероек… В Амуре плескался осетр, кета и горбуша, таймень, хариус, корюшка-зубатка, черный и белый амур, гольян разных видов, усатый голавль, красноперый жерех, носатый пескарь, язь, конь-губарь, лещ, сазан, желтощек, амурская щука и рыба-лапша, вьюн, сом, косатка – и огромною тенью, грозным левиафаном проплывала в тяжелых глубинах калуга…
Все тогда было тихо, мирно и счастливо, но не бывает вечного счастья – отчего-то и кому-то занадобился на этой земле человек. И вот однажды ночью погасли, заметенные тьмой синие звезды, раскололась до нутра верхняя бездна, ударила молния прямо в кедр – и разнесла в кровавые щепы.
К утру кровь на щепе застыла, почернела, отразились в ней неподвижные, густые, чистой смолы небеса. Из этой-то щепы, глянцевой, духовитой, длинной и твердой, и явился первый дом, или, правильнее сказать, фанза, или, точнее, ха-баит ха-йехуди. Воздвигнут он был силою Сварога, духов предков и Яхве-Элохим-Адонай, и един был в трех лицах, и годен для любого племени, живущего на земле, под землей и на водных просторах.
Из южного окна дома видно было незаходящее жаркое солнце и древние воды Амура, из северного глядела прохладными звездами вечность, на востоке трепетал нежно-розовый рассвет, а на западе, откуда дымной тенью кралась смерть, не было ни окон, ни дверей – лишь глухая непроходимая стена. Крыша закрывала дом от мирового гнева, фундамент – от демонов, незримо пребывающих, стены – от четырех видов земных тварей.
Теперь уже забылось, кто первым поселился в Доме и освятил его дыханием жизни. Сперва грешили на синантропов Яо и Шуня из периода Уди Шидай: спустя тысячелетия их кости и черепа безошибочно желтой масти находили на обоих берегах реки, пока староста Андрон, движимый патриотизмом и белой горячкой, не собрал их все вместе и не предал позорному утоплению в равнодушных водах Амура.
Позже стали склоняться к мысли, что дом одухотворил древний народ месопотамского колена иврим-йехудим бнэй-Исраэль, без которого, как известно, и поныне не обходится любое дело под небесами, будь то хорошее или разное.
Но вернее всего, что чудесное жилище первым, как женщину, познал отряд казаков во главе с письменным головой Василием Даниловичем Поярковым. Отряд этот, числом девяносто, пришел на покорение племен уссурийского края – всех, какие встретятся, со всеми их духами, идолами, тиграми, медведями, барсами и пантами пятнистого оленя, незаменимыми для мужской силы.
Казаки встали лагерем в доме и вокруг него, сделали его последней крепостью, обнесли высоким тыном и приготовились сгинуть, потому что задача у них была страшная, невыполнимая – только сгинуть им и оставалось. А потому ночью, когда из волн Амура невидимками поднялись дауры князя Доптыула, на севере погасли звезды, а у западной стены голодной тощей тенью выросла смерть, казаки не стали тратить время на оборону: они нараспев читали заупокойные молитвы по себе самим. Пока шла молитва, ни один из них не дрогнул, не усомнился, не обратил настороженного слуха к текущему в разрывах ночи врагу.
И лишь когда молитва закончилась, а снаружи сделалась мертвая тишина, к даурам, припавшим к темноте, как младенец к матери, вышел самый юный из казаков – семнадцатилетний Олег Полоний. Он заговорил, и глас его был подобен звуку трубы иерихонской, ибо был он из рода сибирских архидьяконов, облеченных благодатью Божией, которых голоса единственные напрямую доходят до небесного престола.
– Отныне вы, народ даурский, и прочая бусурмень, и все ваши князья, и люди простого звания, и рабы, и духи ваши, вплоть до мельчайшего беса, и со всеми вашими женами и младенцами до последнего колена, – все будете платить дань московскому царю, – так рек малолетний Полоний.
Взвыли оскорбленные дауры, словно бы дикие звери, и бросились на штурм казацкой крепости. Но те уже поручили себя русскому Богу, который один сильнее всех бесов, духов и демонов, взятых вкупе. И, как неопровержимо записано в хрониках, Бог послал своего ангела с пылающим мечом, и дауры были повержены, и во прах обращены, и во множестве, смердя, лежали их твердые трупы за оградой дома – и снег засыпал их, и ветер сушил, и солнце жарило, и звезды холодили.
Оставшиеся враги отступили, но отнюдь не рассеялись. Они обложили дом по квадрату, и было их больше, чем проса в полях. Из-за ветвей и пригорков, разбросанных по лесу, за каждым казаком зорко следило по сотне глаз, и стоило сделать шаг наружу, как тут же летели в него пули и стрелы даурские – и попадали, и ранили, и убивали. Ни выйти не могли из окружения казаки, ни войти обратно, если бы кто сдуру и вышел.
Так продолжалось невесть сколько – день, неделя, месяц. И вот кончились у казаков припасы, а голод взял их за горло костлявой рукой. А когда подъели они последнюю мышь вместе с шерстью ее и с хвостами, и последние кожаные сапоги тоже, от которых во рту была вязь и оскома, так сказал им письменный голова Поярков:
– Мы русские, с нами Бог! Не захочет Всевышний нашей смерти!
С этим, пригнувшись от стрел, вышли они из дома, собрали всех мертвых врагов и, опьяневши от голода и славной победы своей, стали пожирать их, словно дикие в Африке и других запредельных землях. И, увидя это, устрашились дауры и иные племена, исполнились отвращения и ужаса и бежали прочь, оставив эту землю лютому московскому царю, который врагов своих не берет в плен, не убивает, но пожирает без остатка – в вечное назидание прочим.
И смутились тогда казаки тому, что сделали, и сами себя устрашились, и не впрок им пошла еда из человеков, а младший из них, Олег Полоний, изверг все назад, как если бы и не ел ничего. И стали тогда они молиться Господу, чтобы отпустил он им грехи их страшные, а если нельзя, то в другой раз послал бы ангела с мечом, и тот покарал бы их всех без остатка.
Видя, что в казаках пробудилась совесть и страх Божий, голова их, письменный человек Василий Поярков убоялся, что потеряют они воинский дух и так сказал им – и всем народам на все времена:
– Кому Богом дана благодать, тому закона не нужно.
И поверили казаки, и возвеселились, и обрадовались, и стали с новой силой праздновать свою победу – над врагами и над законом. Но, пока убитые дауры туго переваривались в луженых казацких желудках, случилась вещь, которой никто не заметил, кроме случайного серафима на небесах и малого беса, красного да рыжего, который резвился вблизи в амурских волнах: в западной стене, доселе неприступной, открылась дверь и голодная тощая тень вошла в дом смертью и поселилась там навсегда.
С той поры первый дом перестал быть домом Бога, а стал домом смерти или просто Домом. Потому что неправ был письменный голова при всей своей мудрости – и у Бога есть законы, которые преступать нельзя, а раз преступивши, надо быть готовым ко всему, даже и к самому худшему.
Ходя
Во всяком племени, даже самом маленьком, презренном и негодящем, какое другие племена и за людей не держат, есть свой культурный герой, с которого племя это началось, или возвысилось над прочими, или даже стало народом. Герой этот обычно – могучий богатырь, или хитрый колдун, или поэт, вернувшийся с того света, или помесь бога и дикого зверя, или даже простая обезьяна с хвостом и красным задом – кому уж как повезет.
Герой дает народу огонь, злаки, ремесла, письменность, хоть бы даже его об этом и не просили. Если местность скудная и дать нечего, герой награждает свое племя гордостью – так, чтобы восхищались своими достоинствами, а пуще того – недостатками. Гордость эта иногда укрепляется и становится патриотизмом, а иногда проходит без видимых последствий.
Имелся такой герой и у нас в Бывалом. Звали его ходя Василий, и был он первым человеком, высадившим на нашей земле гаолян. Толку от этого гаоляна не ждали мы никакого, ну, так ведь, чем бессмысленнее подвиг, тем больше он ценится. К тому же ходя был не русским, он был китайцем с того берега, а с китайца спрос, известно, небольшой, – как и сам китаец.
– На чёрта тебе гаолян? – спрашивал его староста дед Андрон, и сам-то больше не на деда похожий, а на лешего: кряжистый, кудлатый, косматый, даже борода в прозелень, а не как у всех честных людей – седая.
Внешность такая была неспроста: по слухам, в роду у старосты имелись лешие-полукровки, то есть те, которых отцы согрешили с простыми деревенскими бабами, но чад своих не признали, в лес не взяли, а оставили расти на людском попечении – тоже вроде как бы люди.
– На чёрта, говорю, тебе гаолян? – повторял дед Андрон и хмурил кустистые брови. – Или ты им тараканов морить собрался?
– Чу-чуть собрался, – улыбчиво кивал ходя. – Тараканов морить – раз, сам пробовать – два… Потом – три, четыре… Семь-восемь… Девять… одиннадцать.
Считая свои стратегии, Василий не загибал пальцы, как принято у людей, а разгибал, как это делают китайцы, – чтобы всем была видна избыточная честность его и отсутствие любого жульничества даже в самой отдаленной перспективе.
Однако лукавил ходя, даже сказать, врал напропалую. На гаолян у него были совсем другие планы, о которых до поры не то что выговорить, но и подумать слишком явно он не решался. А все потому, что сто тысяч лет назад великий мудрец по имени Кун предупредил, что благородные мужи-цзюньцзы никогда не говорят о деле наперед, чтобы оно не сорвалось. Неизвестно, какой бы из ходи вышел муж-цзюньцзы, но важные вопросы до поры он всегда обходил стороной – хоть огнем его пытай.
А гаолян в жизни ходи Василия был важным вопросом.
Желтый, как коровья моча, выходил ходя по утрам из своей лачуги, глядел вдаль, щурил против солнца припухшие косые глазки, ерошил жесткие черные волосы, морщил лоб, терпеливо ждал, когда заколосится поле, прикидывал грядущие выгоды. Ветер дул с Амура, раскачивал на нем просторные лохмотья – серые, пыльные, дырка на дырке, в таких мышам впору жить, а не честному ходе.
Конечно, с лохмотьями ходя тоже хитрил. Поперек лохмотий имелся у него хороший по крою костюм, сам по себе синий, но с полосками, а шит за наличные в областном центре, где лишь бы деньги давай – сошьют костюм не то что ходе, но и японскому императору микадо.
Однако костюм этот синий Василий не надевал из соображений китайской экономии. Хранился костюм в самодельном лежачем гардеропе, согнутый в три погибели, в карманах его квартировали живые существа – мыши и прочее. По ночам мыши эти любили проснуться, выйти на простор, и разбежаться по всему дому в поисках еды. Еды у ходи было немного, совсем не было никакой еды, а которая была – та китайская, русскому мышному зверю неинтересная. Только зверя это не смущало: если что и находил, тут же жрал немилосердно, а на остальное нещадно гадил, вводя ходю в убыток и огорчение. Так постепенно пожрали мыши всю редьку, доуфу копченое и моченые рыбьи кости, погрызли деревянные углы, а иного больше ничего – в глотку не лезло.
Но едва первый луч уссурийского солнца пробивал тусклое от грязи ходино окно, все мыши и прочие тут же шли назад знать свое место – в карманах у костюма. А ходя, поднявшись с утра, пребывал в недоумении: какие это черти-гуй вводят его в разорение?
Когда, бывало, сельчане корили ходю лохмотьями – при живом-то костюме, – он всегда отвечал хитро, как настоящий китаец.
– Я, – говорил тогда ходя, – в этом костюме желаю после смерти, чтобы понесли меня на суд к владыке ада Яньвану. Если он увидит, что костюм не новый, он на меня разгневается.
– Что же ты, заранее знаешь, что в ад попадешь? – не унимались сельчане. – А вдруг как раз в рай?
– Потому что мы китайцы, – отвечал на это ходя, – у нас рая нет, а только ад многих видов, недоступный чужеземному уму. Один есть способ-паньфа в ад не попасть – стать святым-бессмертным небожителем. Но у меня для этого денег не хватит, бедный ходя.
До того, как растить гаолян, ходя жил на китайском берегу Черного дракона, потом в поисках куска хлеба перешел через реку на сторону русской революции. Вела его кровавая идея классовой борьбы, хоть сам по себе человек он был мирный, робкий и к войне, как всякий почти китаец, непригодный. Испокон веку китайцы солдат слегка презирали, даже поговорка такая ходила на их берегу: «Из хорошего металла гвоздей не делают, стоящий человек солдатом не станет».
Ну, может, для войны ходя и не годился, но классовой борьбы жаждал, хотя представление о ней имел самое туманное. Русский комиссар Мартинсон сманил его из Китая в революцию, но сам при переправе утонул в реке, так и не объяснив, к чему городили весь огород…
Познакомились они с комиссаром случайно, на рынке, когда ходя полез к Мартинсону в карман за пропитанием. И точно, где бедному китайцу искать пропитания, как не в бумажнике у иностранца? Однако затея не выгорела: денег в бумажнике не оказалось. Правду сказать, не было у русского комиссара и самого бумажника, да и быть не могло. Позже ходя и сам постиг, что бумажники иметь – это против классовой борьбы и революции, пусть их носят эксплуататоры. Но тогда он ничего этого не знал, а сдуру полез прямо в карман – тут ему и вышло усекновение.
Почуяв неладное у себя в кармане, Мартинсон обернулся и крепко, не вырвешь, ухватил Василия за худую голодную руку.
– Что, ходя, нечем поживиться? – усмехнулся комиссар, разглядывая воришку; белки его, бешеные и веселые, сверкали на загорелом лице, как у африканца.
Вот так ходя впервые узнал, что он – ходя. До того все его звали Вай Сыли, что значит Иностранная Агрессия. Кто дал ходе такое диковинное имя, неизвестно, на свет он появился круглым сиротой. Может, соседи покуражились, может, шедший мимо боксер-ихэтуань, чтобы всю жизнь помнил ходя о славной борьбе китайцев с янгуйцзы – заморскими дьяволами.
Но, пока на Мартинсона глядел, не до имен ему стало – испугался ходя до смерти, до дрожи. За воровство могли его палками забить или бросить в ямынь и кормить одной гнилой капустой, пока от поноса не вывернешься наизнанку.
Все это было так ясно в глазах у ходи написано, что Мартинсон его пожалел.
– Не бойся, – сказал комиссар. – Вижу, ты не какой-то там эксплуататор, правильный рабочий паренек. Давай знакомиться, ходя. Меня зовут товарищ Абрам Мартинсон, я – русский революционер.
И протянул ходе цепкую, как дверной крючок, ладонь.
Поняв, что стражу звать не будут, ходя приободрился.
– Вай Сыли, – сказал он, осторожно погладив протянутую комиссарскую руку.
Ходя слышал, что иностранцы не кланяются друг другу, когда здороваются, а протягивают руки. Но зачем они это делают, он не знал, поэтому поступил с рукою так, как велели ему инстинкты – древние, как Поднебесная.
Мартинсон крякнул и руку убрал, но на ходю, кажется, не обиделся.
– Вай Сыли, – повторил он и почесал бритый подбородок. – Ну, значит, будешь ты, ходя, Василий.
Так ходя, сам того не ожидая, примкнул к русской революции. Как знать, кем бы стал он, если бы Мартинсон не утонул в Амуре, и каких бы достиг высот. Но уж что вышло, то вышло: на судьбу пенять – все равно что на погоду, за такое в отдельном аду будет ждать тебя Яньван раньше времени.
И хоть старый контрреволюционер Черный дракон поглотил комиссара, на память об учителе осталась ходе черная кожаная куртка, которую он выловил в предательских водах Амура, выжал и надел на себя. Куртка была великовата и пропахла тиной и смертью. Но ходя все равно носил ее – временами. В ней-то он и явился впервые пред бородатые очи старосты деда Андрона и попросил дать ему место под строительство дома, а также надел земли под гаолян.
Страшен был дед Андрон, даже и для русского человека страшен, а уж китайцу со своими космами лешачьими и вовсе казался злым духом. Что, между нами сказать, не так уж было далеко от истины. Трепеща, ходя пал ему в ноги и молился, все равно как злому – или доброму, для китайца без разницы – духу. Что, в самом деле, за разница, какой дух, главное, чтобы отношения с ним были хорошие, взаимовыгодные. Человек – и тот каждый день разный: вчера – плохой, сегодня – хороший, а завтра, глядишь, и то и се сразу, а уж дух и подавно. Не злить духа попусту, а молиться ему да отношения налаживать – вот для тебя он и будет хорошим, а каков он с остальными, это их головная боль, ходи не касается.
Вот так и деду Андрону ходя молился, со всем уважением. Но, видно, Андрон был особенный дух, моления на него воздействия не возымели. Больше того, погнал от себя староста ходю: и без того много вокруг косых да желтых, если каждому землю давать, то что же это будет? Затосковал ходя непроглядной тоскою и ушел в лес – пусть уж тигр съест ходю, раз нет ему на этом свете доли, а есть только судьба и злой рок.
По счастью, вместо тигра встретился ходе Колька Лютый – местный алкоголик, стрезва отправившийся в лес ловить соболей китайским методом, через удавление бревнами. Льняные его, как бы из полотенца надерганные волосы были всклокочены, глаза же синие, нос картошкой и улыбка, хоть и щербатая малость, но искренняя, до ушей. У ходи от этой улыбки сразу на душе потеплело, давно ему никто так не улыбался.
– Что ты, ходя, здесь делаешь среди леса один с такой постной рожей? – спросил ходю Колька.
– Чувствую – умирать надо, – честно отвечал ходя и поведал Кольке о своих злоключениях.
Колька посмеялся над ходей, а затем, конечно, объяснил ему особенности русской жизни – что тут ничего не делается за просто так, нужны деньги и подарки. Ходя кивал, благодарил за науку, а сам про себя думал, что не отличить два берега – наш и китайский. Как и говорил Мартинсон, все люди братья и везде об одном думают: о деньгах и подарках, – а жизнь между тем проходит мимо.
Однако философия философией, а дом все равно был нужен и поле тоже. Развернулся Василий и вдругорядь пошел к старосте. Денег Василий не имел, потому преподнес старосте самое драгоценное, что у него было – браслет из красного нефрита, заклятый бродячим даосом на вечную жизнь.
Дед Андрон вечной жизнью не интересовался и не верил в нее, даже в церковь не ходил, но браслет его заворожил – играл на солнце кровавым пламенем, как знамя революции, о которой до села доходили глухие и неточные слухи. Говорили, что упала с неба на Питер и Москву блудная звезда полынь – и источники вод сделались горьки, а все голожопые, сколько их ни есть в России, восстали за лучшую жизнь.
От революции деду Андрону сделалось не горячо и не холодно. В зажиточном Приамурье своих голожопых держали в ежовых рукавицах и не допускали к восстаниям, а чужих не боялись, поскольку добираться было очень далеко. Да и сильно надеялись местные жители на свои ружья и карабины – крепкий охотник, известно, хуже любого помещика, сам кого хочешь подожжет.
Что бы там ни было, браслет китайский деду Андрону понравился. Он выделил ходе землицы на окраине села и снабдил столярными инструментами для постройки дома.
Дом ходя выстроил черт-те какой: косой, кривой, где пол, где потолок, не разберешь, настоящая фанза, – зато поле гаоляновое вышло у него на славу.
Тосковал ходя по родной душе, по живому человеку, чтобы словом перемолвиться, а вокруг одни были русские, которые и его самого за человека никак не держали: ходя – он и есть ходя, без денег никому не нужный, да и с деньгами не особенно. Один только человек его понимал, слушал и поддерживал – это Колька Лютый, но так редко он бывал трезвым, что в расчет почти и не шел.
Вот так и получилось, что все силы маленькой желтой души своей направил ходя на поле, на родимый гаолян, который заменил ему и мать, и отца, и единственного друга.
Поле он копал вручную, как заботливый крот; чтобы засадить его, влез в долги, обслуживал все село, самой грязной работы не гнушался. Отдыхал да ел только ночью, ловил в Амуре тайменя, голыми руками ловил, как медведь, заходил в реку по пояс, дрожал от собачьего холода, а поймав, бил башкою о камень – раз бил, два, сколько надо, до полного издохновения. Потом жарил как попало, на случайном костре, на попутном ветре, ел мягкое, пахнущее мочой, подгоревшее и упоительно вкусное мясо, после сворачивался в фанзе своей на утлой тростниковой подстилке и засыпал в полной темноте в обнимку с тяпкой, чтобы с утра снова бежать на поле – и обрабатывать, обрабатывать, каждый колосок выпрямлять, каждую травинку сорную, злую голыми руками выпалывать.
Когда настала великая сушь, худыми ведрами носил от Амура к полю воду – поливать, подкармливал коровьим навозом (забесплатно вымолил у сельчан), таскал голыми руками, снова рыхлил, боронил, сам себе был лошадью, обжигал желтую кожу на солнце, потемнел, стал оливковым, как африканец, плакал, глядя в осколок зеркала, сам себя не узнавал: кто это? Или украли родного ходю, красивого, как Желтый предок, а на его место подсунули чужого негра?..
Когда первые ростки взошли, упал ходя на землю навзничь, плакал, целовал ее, как святыню, кусочки серой сохлой почвы впечатались в губы, а он даже не отплевывался, улыбался, блаженный. Нарисуй его кто – готовый бы вышел портрет святого, пусть и глаза раскосые, и лицо желтое, и кровь нерусская, а все равно святой.
Заколосилось поле – новая беда: вороны прилетели жрать ходин гаолян на дармовщинку, на кровавую халяву. Ходя побежал к Кольке за ружьем – объявить воронам войну и истребление. Колька ходе обрадовался, как родному, но ружьем помочь не смог: оно у него много лет уже не стреляло, Колька держал его, чтобы в редкие минуты трезвости отпугивать тигров, медведей да красного волка. Ну, а пьяному ему никакой медведь не был страшен, он сам был хуже любого медведя.

