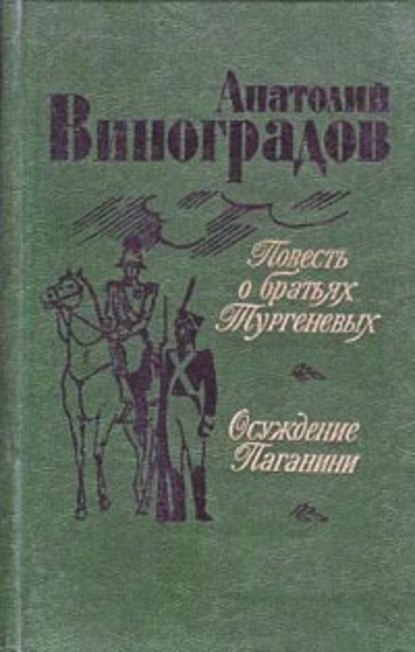 Полная версия
Полная версияОсуждение Паганини
Когда однажды, слишком туго натянув струну, Паганини оборвал ее, он в рассеянной поспешности натянул альтовые и виолончельные струны. Заметив ошибку, он вместо того чтобы ее исправить, вдруг улыбнулся той таинственной и загадочной улыбкой, которая бывает у безумцев, у алхимиков, у ученых, открывающих после долгих поисков новое сочетание свойств в старых, давно известных веществах. Паганини решил испытать новые струны, и скрипка заиграла неизмеримо разнообразней и богаче.
С этого дня испытания скрипки продолжались без конца.
И, однако, пришлось такие усиленные занятия внезапно приостановить.
Отец и мать стали жить слишком широко в надежде на заработки сына.
Готовить большие концерты! Не к этому стремился Паганини. Оплачивать проигрыши шурина и биржевые спекуляции отца деньгами, получаемыми за выступления, вдруг показалось молодому скрипачу до того унизительным и опасным, что он стал выискивать повод к разрыву. Повод нашелся.
Прошли слухи, что город Лукка готовился к праздничной встрече нового столетия. Празднества начнутся в день святого Мартина и продлятся до 1 января.
Вот прекрасный предлог! С этого дня начались разговоры о Лукке в семье Паганини. Как бы нечаянно друзья сообщали, что в Лукку съедутся музыканты всего мира, что будет ярмарка, откроются громадные торги и что в это время Никколо может много заработать концертами именно в Лукке.
Ввиду того, что Никколо настойчиво твердил только о своей поездке, отец боязливо прислушивался к этим разговорам.
– Вы будете мною довольны, – говорил сын отцу.
Отец вставал из-за стола, ронял тарелки на пол и бокалы с вином.
Но сын был упорен, и для старика каждый следующий день не приносил ничего нового. Ноябрь месяц быстро приближался. День святого Мартина стал сниться Никколо. Скрипач решил пойти на сделку со старшим братом. План удался блестяще. При условии передачи всех денег старшему брату, который должен был выступать в качестве импрессарио, отец согласился отпустить Никколо в город Лукку на праздник нового века.
Глава тринадцатая
Carmen Saeculare
Белесоватая каменная дорога была сплошь покрыта экипажами и пешеходами. Ломбардские паломники, праздношатающиеся туристы, любители развлечений и многочисленные представители разных ярмарочных профессий, законных и незаконных, кто пешком, кто на осле, кто в многоместном экипаже, направлялись по пути в Лукку.
Если для одних это была ярмарка в день святого Мартина, а для других – празднование наступления нового века, то для Паганини к этим двум праздникам присоединялся праздник собственной свободы, праздник полного освобождения от ига отца. Голова кружилась, билось сердце, и если ничего не было сказано отцу, то самому себе была дана клятва во что бы то ни стало не возвращаться домой никогда. Побег был решен, окончательный разрыв с семьей внутренне осознан.
С одной стороны, тут были минуты тревоги неокрепшего отроческого сознания юного человека, горящего любопытством к жизни, с другой – было стремление большого, вполне созревшего артиста к освобождению от той коммерческой сделки с искусством, на которую влекла его своекорыстная воля отца. Все сильней и сильней чувствовал Паганини невозможность под родным кровом расширять свой музыкальный кругозор. И если прежде маленький Паганини страдал от побоев, от непосильной работы, то теперь это сменилось еще более острым страданием, так как оскорбляли его отношение к музыке, его чувство артиста.
Ему давно не хватало воздуха, и не будь этого путешествия в Лукку, он бежал бы юнгой на корабле, он сделался бы поваренком в английском ресторане, он на что угодно променял бы семейные будни. В минуты конфликта с самим собой, с отцом, в минуты колебаний в выборе жизненного пути Паганини чаще всего бросал скрипку и занимался гитарой. В игре на этом инструменте он достиг высокого мастерства. Это было новое чудо виртуозной техники. Но если в скрипке он облагораживал технику и заставлял ее служить себе так, чтобы она давала возможность раскрыть всю полноту переживаний большого артиста, то гитара выполняла иное назначение: здесь он выливал новое для себя озлобление. Поэтому какой-нибудь банальный танец, сыгранный на гитаре, превращался в сатирическую пародию, намеренно вульгаризованную пальцами Паганини.
И чем меньше люди понимали пародийный стиль молодого гитариста, тем больше злорадствовал Паганини. Гитара все чаще и чаще становилась для него средством издевательства над своим душевным состоянием, из которого он не находил выхода, – издевательства над людьми, которым он мстил за охватывавшее его временами недоверие к своему духовному подвигу.
Скрипка и маленький дорожный мешок. Ветер, солнце и пыль. Что может быть лучше ощущения полной свободы, когда вся жизнь впереди!
Праздники итальянских городов – едва ли не самое очаровательное зрелище в мире. Все население принимает в них участие. По воскресеньям итальянские улицы объединяются в общем веселье. Устраиваются процессии, толпы идут с оркестром, нечаянно и внезапно образовавшимся из группы соседей, владеющих разными инструментами. Идут мужчины, женщины, дети, украшенные лентами и цветами, иные – с благопристойным пением, иные – с хлопушками, с фейерверками. Крики звучат тем громче, чем южнее город. В Неаполе сотни хлопушек надевают на огромную металлическую раму, и усталый путник, приехавший в этот день и заснувший в гостинице, бывает разбужен громом и стрельбой и вскакивает, с недоумением открывая жалюзи, думая, что в городе восстание и канонада свергает представителей старой власти. В Венеции – серенады, на каналах лодки с цветными фонариками, певцы и певицы, танцы на берегу и прогулки в море. Все это всегда сопровождается непременной спутницей итальянской радости – музыкой.
Директор луккской капеллы был предупрежден письмом Паера, и Лукка приняла Паганини хорошо. Первое выступление было приурочено к ночной праздничной процессии, вечером второго дня он снова давал концерт. Это был полный успех молодого скрипача. После концерта был устроен вечер в магистрате, и столько было выпито вина с неожиданными и незнакомыми друзьями, что Паганини не помнил, как попал в гостиницу. Это была не та гостиница, где он остановился, но такая мелочь не смутила музыканта: все равно.
Вечером – новый концерт. Первый раз Паганини не готовился к концерту. Он вышел на эстраду с непонятным чувством победной уверенности, и это чувство было похоже на огонь, пробегающий по жилам новобранца, вдруг, после первых колебаний, бросившегося в атаку.
Под обстрелом сотен глаз Паганини поднял смычок. Мелодии ушедшего столетия, мелодии Люлли и Рамо, чарующие такты менуэтов и гавота сменялись звуками охотничьего рога. Торжественное звучание церковных колоколов, похоронные песни и голоса гневных псалмов постепенно уступали место вторгающимся нечаянно стеклянным перезвонам колокольчиков. Раздавалась музыка того странного десятилетия, когда в церковные хоралы вливались звуки веселых и непристойных танцев. Колокольный звон благословения переходил в набат, набат сменялся простыми солдатскими и крестьянскими песнями Франции. Опять «Dies irae»[2], и, как из пропасти, раздаются глухие удары, топот конницы и вой бури врезаются в зал, наполненный праздничной, нарядной толпой. Все ускоряя всплески аккордов, Паганини рисует звуками, музыкальным вихрем колоссальную картину событий, потрясающих Европу. В финальных тактах раздаются звуки итальянской «Карманьолы» и «Марсельезы». Это была поступь нового столетия. Это была «Юбилейная песня».
Когда прошла неделя святого Мартина, миновали праздники, были выметены затоптанные букеты, конфетти, серпантин и обрывки лент, за опьянением первой недели свободы наступило отрезвление. Возникло стремление осмыслить пройденный путь. Но это стремление не увенчалось успехом. Строй, лад, ритм в музыке и в жизни – все казалось подчиненным какому-то целесообразному большому закону, управляющему всеми явлениями в мире. Паганини подходил к этому наивно, с бережливостью неофита и застенчивостью неопытного мыслителя. Он совершенно отчетливо ощущал, почти осязал значение самого себя как существа, воплощающего музыку. Паганини чувствовал себя современником нового века.
Он воспринимал всю церковную музыку как нечто враждебное тем звукам, форма которых звучала для него в «Карманьоле» и «Марсельезе». Огонь новой эпохи; пожары восстаний, их уничтожающее пламя, вихрем набегавшее на образы старого мира, – все это враждовало со спокойными церковными напевами, с гимнами католической церкви, с тем музыкальным предписанием смирения и покорности, которое было похоже на укрощение человеческого зверинца мелодиями Орфея.
Паганини любил сыпать в стакан горячей воды полные ложки соли. Он смотрел затем, как маленький сухой кристаллик, брошенный в этот перенасыщенный раствор, мгновенно вызывает бурную кристаллизацию в тяжелой, не имевшей самостоятельной формы, массе.
Паганини усматривал в этом процессе, преобразующем мертвое вещество, те же самые явления, какие он наблюдал в концертном зале, когда раздробленные, бесформенные части человеческого сознания и воли вдруг кристаллизуются и приобретают необыкновенную стройность под влиянием музыки. Он улавливал раздражение, являющееся результатом дерзкого сочетания необычайных аккордов и звуков, когда человек старается освободиться от внезапно налетающих чувств и не может, потому что дерзновенное сочетание звуков и чувств облечено в такую гармоническую форму, которая неотступно преследует человеческое сознание. И тот, кто услышал это сочетание звуков, оказывается им порабощенным, хотя знает о запретности этого сочетания.
Засыпая после концертов, Паганини просыпался внезапно как бы в бреду или в лихорадке. Ему казалось, что музыка должна перестроить весь мир вещей и строй человеческих отношений. Но какая это должна быть музыка? В поисках этой музыки он чувствовал себя все более и более утомленным, а впечатления Лукки усиливали это утомление.
Паганини устремился к другой игре. Зеленые столы, куски мела, таблички из слоновой кости, свинцовый карандаш, лопаточка крупье и горсти червонцев – все это заставило бросить скрипку надолго. Все это изменило дни и ночи, часы и минуты, мысли и чувства Паганини.
Под утро, с распухшими веками, с пожелтевшим лицом, с большими синими кругами под глазами, юноша выходил из игорного дома. Усталый, заспанный лакей подавал ему шляпу и трость. Сырой туман встречал его на пустынных улицах Лукки. Торговец овощами презрительно глядел в его сторону, девушки ночной профессии окликали его насмешливыми голосами и предлагали пройти с ними целую школу удовольствий. Паганини был утомлен и проигрышем и усиленным прохождением курса этой школы. У него появилось то отвращение к жизни, которое раньше было незнакомо мальчику, изнуренному только тяжелой работой, только той растратой сил, в которой он самне был виновен.
Как это все случилось,Паганини не помнил. Он поклялся, что никогда этогоне забудет и никогда это не повторится. Он лежал в ливорнском госпитале. Давно ли он был в Ливорно? Как он попал в Ливорно?
Его окружают люди. в больничных халатах, доктор в красной шапочке, с молоточком и со стетоскопом в руках. Паганини слышит: «...был бред».
"Быть может, все это – только страшный сон, – думает он. – Лучше никому не говорить об этом".
Что он вспомнил? Крик женщины и зарезанного ребенка!.. Идиотическую болтовню пьяных людей у костра. Темный овраг, огромные деревья где-то очень высоко. Он словно на дне колодца. Люди за кустами у костра. Страшные лица, гримасы пьяного хохота. И вот человек с огромной бородой, с синим носом, с воспаленными веками держит в руках его скрипку и словно перепиливает ее смычком Отвратительные, чудовищные, жалкие звуки. Потом опять бессознательное состояние.
– ... Да, вспомнил! – вдруг громко произнес Паганини. Он скинул одеяло и сел на постели. Последний концерт он давал в Ливорно. И, как бы отвечая ему в тон, доктор сказал:
– Да, я был на вашем концерте. А после концерта, на следующий день, вас нашли неподалеку от южных ливорнских ворот. Вас ограбили начисто, очевидно: у вас не было даже вашей скрипки. Вы метались в сильном жару, а теперь, чтобы выздороветь, вам необходим полный покой.
– Сколько времени я здесь, в Ливорно? – тревожно спросил Паганини.
– Не могу вам сказать. На моем попечении вы три дня. За это время дважды к вам приходил господин Ливрон.
– Не знаю его, – сказал Паганини.
– Вот как! Это весьма уважаемый гражданин нашего города, член нашего магистрата.
– Зачем я ему нужен?'
– Очевидно, вы будете иметь возможность узнать это от него лично, – заметил доктор, недоверчиво глядя на Паганини.
К вечеру действительно пришел высокий, весьма благообразный человек и попросил разрешения говорить, с синьором Паганини. Осторожно, в очень деликатной форме, Ливрон просил синьора Паганини «оказать ему высокую честь», испытать достоинства скрипки Гварнери, принадлежащей ему, Ливрону. Паганини не знал, что ответить, но быстро нашелся, поблагодарил Ливрона и сказал, что надеется испытать эту скрипку в первом концерте, который даст по выздоровлении.
Познакомившись ближе с господином Ливроном, Паганини переехал к нему. Член луккского магистрата оказался весьма гостеприимным хозяином. Он предоставил в полное распоряжение музыканта комнаты, настолько спокойные и удобные для работы, и сам так мало напоминал гостю о своем существовании, что Паганини чувствовал огромную благодарность к этому человеку. Но все эти дни были наполнены для Паганини тревогой, отравлены непонятной встречей с той страшной половиной жизни, которая существует бок о бок с обычными, светлыми и ясными днями человеческого сознания. Теперь, во время игры, Паганини чувствовал необходимость сорвать голубую пелену с черного, нависающего над миром неба. Он говорил самому себе, что кошмар за воротами города раскрыл для него незнакомый ему доселе ужас.
Это чувство прорывалось у него потоком демонических, разорванных, уничтожающих друг друга мелодий. Он видел, как дрожь пробегает по рядам концертного дала, когда эти ноющие, меланхолические и страшные звуки врываются в кантилену. Он видел страдание на человеческих лицах, он чувствовал мольбу о прекращении этих страданий. Он наблюдал то неосознанное чувство самосохранения, которое вдруг заставляет человека мгновенно накинуть покрывало на тайну смерти, тайну несчастия, тайну уничтожения и страдания. И Паганини чувствовал себя на огромной высоте, когда ему удавалось касаться этого покрова лишь настолько, чтобы придать ему, этому покрову, этому миражу благополучия, спасительное значение реальности, гораздо большей, чем реальность человеческих мук и страданий. Жизнь торжествовала над этим случайно приоткрытым, страшным и близким миром.
Скрипка Гварнери была настолько звучным, настолько послушным инструментом, что она вполне заменяла ему прежнюю. Он помнил эту скрипку по литомонографии, виденной у графа Козио. Она значилась под номером триста и называлась «Гварнери дель Джезу».
После концерта Паганини, рассыпаясь в похвалах этому инструменту, бережно вручил его Ливрону, пришедшему за кулисы. Ливрон покачал головой.
– Не осмелюсь прикоснуться к инструменту, на котором играл божественный Паганини, – произнес он, очевидно, давно приготовленную фразу.
Мечта Паганини осуществилась – «Дель Джезу» принадлежала ему.
Широкая, с эфами, слегка выщербленными временем, с потеками полустертого лака, с квадратным надрезом на верхней деке над левым эфом, эта скрипка носила следы принадлежности многим владельцам. Но ее звуки поражали Паганини.
– Это звуки самой природы, это живые голоса! – восторгался он.
На третий день после первого концерта Паганини сделал опыт. Он натянул на эту скрипку виолончельные струны и дал заказ мастерской Рокеджани из двух смычков Турта сделать смычок необыкновенной длины.
– Козио, – говорил Паганини, – с ужасом относится к надвигающемуся времени, а я его приветствую. Я с ужасом отношусь к тому прошлому, которое вторгается в нынешний день, но я прав, натягивая новые струны на старинную скрипку и беззаконно удлиняя смычок великого мастера Турта. Во Франции новые люди открывают новые законы устройства человеческого общества. Кто запретит человеку открывать новые свойства в мире звуков? Вот виолончельные струны на скрипке открывают бесчисленные возможности и увеличивают диапазон, а удлинение смычка – такая простая вещь – наилучшее средство дать звук необходимой протяженности.
Как-то случилось, что никто не заметил внешних перемен в инструменте синьора Паганини. Четыре концерта прошли блестяще. Это был успех, какого Паганини не мог ожидать, фанатическое ликование огромной массы людей.
И, однако, Паганини ждал беды. Самый успех концертов был преодолением того сопротивления, той враждебной настроенности, которые все чаще ощущались музыкантом. Огромное количество сплетен ходило по городу. Они доползали до слуха Паганини:
«Паганини проиграл скрипку в карты и потому не дает концерта. Паганини заразился дурной болезнью, потому он лежит в госпитале». Толстый каноник соборной церкви говорил купцам, собравшимся на крещение новорожденного в семье ливорнского портового маклера:
– Я знаю этого скрипача. Это дьявольская скрипка, это проклятые богом звуки, это нечистая музыка, которую не должны слушать верные сыны церкви.
На седьмой концерт съехались музыканты со всех концов Северной Италии. Одни слушали Паганини с ненавистью и завистью, другие – с религиозным благоговением и энтузиазмом. Сливаясь, их голоса возглашали ему неслыханную славу.
В это время Паганини впервые пришлось узнать, что такое анонимные письма.
Ему прислали по почте пасквиль, в котором называли его исчадием дьявола, грозили ему вечными муками, издевались над ним, говоря, что он натянул воловьи жилы на скрипку, украденную у купца Ливрона, и что стыдно итальянскому скрипачу в почтенном концертном зале честного города шарлатанить и издеваться над публикой, играя смычком, равным по длине мосту через реку Арно.
В одном анонимном письме автор усердно расхваливал свой рогатый скот, как наиболее жилистый, и предлагал Паганини купить целое стадо волов для изготовления струн. Письмо кончалось выражением уверенности, что самая большая, самая рогатая скотина есть сам скрипач Паганини.
Другое письмо, по-видимому согласованное с первым, предлагало самые высокие деревья ливорнского парка для изготовления смычка. К письму был приложен рисунок, изображавший артель Паганини: Паганини руками и ногами давит на струны, в то время как десять здоровенных молодцов на каждом конце смычка тянут этот необычной длины инструмент, как пилу на лесопилке. Первые щипки и укусы не произвели на Паганини никакого впечатления.
– Я становлюсь знаменит, – говорил он Ливрону, – а если так, то по пятам за мной будут бегать собаки и кусать за пятки.
Ливрон, которому Паганини показал эти письма, качал головой с выражением досады и недоумения.
* * *Венеция была отдана Австрии, а в 1798 году римский папа внезапно оказался лишенным светской власти. Из старой Романьи была выкроена Римская республика. 15 декабря 1798 года Рим был занят французами. Не выступая против Франции открыто, римская церковь, в лице сотен тысяч попов, начала свою деятельность тайно и придала ей характер широкого народного движения. Как только попы увидели, что французская армия намеревается посягнуть на благосостояние церкви, так по всем церквам статуи и изображения святых, богоматери и Христа стали источать слезы. В Риме Христос, полагаемый в плащаницу, за ночь раскрыл глаза и смотрел широкими зрачками на бесчинства французской армии. По городу двигались процессии босых людей, намеренно одетых в рубища. Как искры, пробегали в толпе слухи о том, что какая-то статуя дважды открывала глаза и гневно исказила свой лик. Па площади Поларола икона мадонны делье Сапонаро стала «источать молоко». Этим молоком налили двести лампад, которые «зажглись сами собой». Священники в облачениях, орарях и ризах за недорогую плату окунали четки, приносимые простонародьем, в эту маслянистую беловатую жидкость.
Однако находилась молодежь, которая шла во французскую национальную гвардию, и в день празднования федерации было немало людей, нарядившихся в античные костюмы и с венками на головах прошедших в республиканской процессии, чтобы потом на площади святого Петра принять участие в большом торжественном обеде, где римское население браталось с французской гвардией. Были пущены слухи о том, что этот «праздник привлек тысячи демонов, которые отомстят нечестивому Риму за участие в празднике федерации».
И вот, когда римской курии казалось, что новое столетие принесет для римской церкви неисчислимые беды, все изменилось.
Бонапарт чувствовал необходимость замирения с римским папой. Но в это время умер Пий VI. Рим был занят, но заключать какое бы то ни было соглашение было не с кем. Тайком, в чужих одеждах, пробравшись по северным дорогам, кардиналы римской апостольской курии собрались в Санто-Джорджо, близ Венеции, под крылом австрийских жандармов, и тринадцатого числа третьего месяца нового столетия собрали тайный конклав и приступили к избранию нового папы. Так возник Пий VII, первоначально в роли активного врага Франции.
Однако Пий VII решился на все, для того чтобы удержать могущество римской церкви. Потеря Франции очень чувствительно пошатнула доходы римской церкви. Он признал отчуждение духовных имений. Это стоило ему четырехсот миллионов франков. Он согласился на новую организацию французского духовенства, с тем чтобы правительство имело право назначать на должности и платить жалованье; он выговорил себе только одну уступку – римскому папе по-прежнему предоставлялось право канонического утверждения.
Расчет был верен: личный состав католической армии папы решал огромное большинство вопросов. Римская церковь могла торжествовать победу в том отношении, что во Франции она считалась церковью государственной. И в 1802 году, без всякого торжества, ночью, выехал в Париж римский кардинал, который вез с собой подписанный папой Пием VII конкордат, соглашение между французским республиканским генералом и римским первосвященником, в силу которого воспитание огромной массы французского населения снова отдавалось в руки католической церкви, а католическая церковь из врага, изрыгающего проклятия на голову французского командования, превращалась в друга и союзника.
Так, начав с прокламаций, объявляющих отмену религии, равенство и братство во всей Италии, Наполеон кончил отдачей Франции в руки католической церкви. Оба невольные друга, Пий VII и генерал Бонапарт, чувствовали себя несколько неловко.
Слушая унылый звон Notre-Dame de Paris[3], соратники Бонапарта спрашивали, стоило ли вешать столько попов на парижских фонарях, для того чтобы снова пустить этого козла в огород. Бывший революционный генерал, мечтавший теперь о том дне, когда глава католической церкви возложит корону на его голову, ответил насмешливо, что водворение католических попов в Париже и по французским селам и деревням не делает обязательным культ католической церкви для него, Бонапарта, и для его генералов.
Следующим шагом Бонапарта было предложение папе избрать столицей католического мира Париж или Авиньон.
На это папа Пий VII ответил, что в городе Палермо уже заготовлена грамота с отречением от папства, и эта грамота аннулирует все договоры с Францией, если папа Пий VII будет задержан французами по дороге в Рим. В тот же вечер римский папа принял адмирала английской эскадры, который обещал ему всяческое содействие в случае необходимости побега.
Католическая церковь становилась орудием в руках недавних врагов. Англичане хотели использовать вражду римскою папы и Франции, ненавидя Бонапарта и стремясь всяческими средствами парализовать все его начинания на территории Апеннинского полуострова. Католическая церковь снова чувствовала себя господствующей властью в Италии.
Ливрон, у которого жил Паганини, был французом, и французские симпатии Паганини сближали гостя с хозяином. Но Паганини сделал неосторожный шаг. Не посоветовавшись с другом, он ответил на приглашение английского консула в Ливорно и провел у него целый вечер. Он играл у английского консула на скрипке, подаренной Ливроном, он воспользовался предложением английского консула и командования английской эскадры и согласился на организацию огромного концерта в Ливорно, написав для него обширную программу. После этого неизбежной была ссора с Ливроном. Ливрон дал понять, что его тяготит присутствие Паганини.
Скрипач в тот же день переехал в гостиницу «Черного коня».
Наступил день концерта. Огромное количество публики наполнило зал и коридоры ливорнского театра. Почетный караул английских моряков стоял у входа, сдерживая натиск толпы.
Однако, несмотря на огромное скопление публики, нетерпеливо ожидавшей начала, синьор Паганини отсутствовал.
Вы ознакомились с фрагментом книги.



