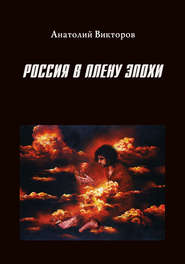
Полная версия:
Россия в плену эпохи
Такое произошло в рабовладельческом Риме, где происходил большой разгул страстей: казни людей, провинившихся даже в малых проступках, – тюрем и лагерей ещё не было; праздники публичных столкновений на арене, кончавшихся смертью ни в чём не повинных людей, – гладиаторов; изысканная проституция; грабеж соседних государств; разделение населения волей верхов на господ и рабов.
Был создан первый письменный свод законов, получивший признание и названный «Римским Правом». Рамки закона стали противовесом произвола. Следствием стало также принятие Права рабами Империи, увидевших в нём ограничение своих страданий. Войны остались и лицемерно прикрывались новыми законоположениями. Пришло понятие чести: у одних мерами соблюдения человеческого достоинства; у других – жестокостью.
Снова появились противоречия. Наказание стало пониматься как зло, несмотря на его кажущуюся справедливость. Противостояния разума и чувства даже в своде законов могли бы найти своё спасение, но людей судил не Бог, а лицо с общими для всех чертами. Преступник и судья – оба люди.
Найденное разумом Право становилось уважаемым, поскольку оно несло независимую от обстоятельств справедливость. Римское Право стало основой законодательства многих стран. Оно утвердило появление кланов, объединений, этносов, основывающихся на различном толковании поступков, к созданию кругов с общим пониманием справедливости. Были приняты условия мирных взаимоотношений между людьми.
Человек искал защиту от самого себя и себе подобных. Такой поиск мог привести к гармонии существования. Право – дитя нравственности, учитывающей возможности человека – выросло на верности основам его созидания, представляющим собой добро. Можно ли уровнять эти основы со всем, что произошло в дальнейшем? Это невозможно для человека, остающегося на прежних ступенях развития.
Жизнь принесла компромисс.
Она постоянно напоминала человеку, что окружающая его природа – зеркало справедливости. Единство людей может быть всесильным, если они станут верными ей. Для этого надо впитать окружающий мир, и тогда придут новые открытия. Соприкосновение с природой принесёт людям ещё неизвестные духовные богатства во всем их неиспользованном могуществе.
Американский философ Генри Торо в XIX веке, после разочарования в поисках правды среди людей, также пришел к выводу, что только в жизни природы можно увидеть справедливость. Естество может иметь большее значение для развития сознания человека, чем последующие нравоучения. Торо, разочаровавшийся в воспитании современного ему человека, писал: «Старость не столько получила, сколько утратила… Её опыт слишком ограничен. Передо мною жизнь – опыт, почти не испробованный мной, но мне мало толку от того, что они его проделали».
Это был шаг к чистой основе, на которой можно развить разум, и одновременно – к пониманию ненужности, находящихся вне разума условностей, которые могут нелепо выглядеть на ступенях очередного развития. Учитывать продолженную от природы эволюцию человека, значит суметь лучше понять причины конфликтов между современными людьми и мирно противостоять им. Таков вывод, сделанный Г. Торо.
Тогда мыслящий человек, а не только «наместник» Бога, может творить чудеса. То, что называют «чудом» в евангельском изложении – это метафора для показа возможностей развития, если человек безмерно поверит в собственный разум. Ветхий и Новый Заветы учат достижению духовных открытий, развитых верой в добро и вдохновлённой ею волей.
Вера в высшую силу как в духовную основу стала не просто накопленным знанием, а душевным чувством, которое нуждается в абсолютном доверии к нему. Русский мыслитель наших дней, А. Тарковский, сказал: «Вера – это единственное, что может спасти человека… Иначе что бы мы могли совершить? Это та единственная вещь, которая бесспорно есть у человека. Всё остальное – несущественно» (по Н. Болдыреву). Вера, как он понимал, это человеческая душа, познавшая свой путь.
Человек нуждался в системе верования – религии. Та, он полагал, может стать фундаментом для дальнейшего созидания, в чём бы оно ни выражалось. Религия – основа, опираясь на которую, можно встать с колен. Такое развитие давало надежду на дальнейшее существование разума. Вера в невидимое начало – это обращение души к чувству ещё неосмысленному и требующему нечто видимого и ощутимого. То, что человек хотел возвести веру в материальную основу, влиятельную своим наглядным существованием, было наследием язычества. Оно не умерло. Храмы содержали «священную» утварь и торжественные одеяния священнослужителей. Эти способы внедрения веры принимались, но в дальнейшем стали условными и менее нужными.
Продолжались нарушения нравственных основ. Открывающаяся новой техникой безбрежность окружающего мира и расширение желаний овладеть всем видимым опрокидывало запреты. Много времени прошло с тех пор, как до разума стало доходить, что во имя сохранения человеческого рода надо бороться со всем тем, что его подавляет.
Это стало преобладающим нравственным началом в Европе и Византии. И в некоторой степени новой чертой человеческой природы, несмотря на множество препятствий. Люди, прикрываясь авторитетом Евангелия, Торы и Корана, творили добро и зло и не принимали дух человеколюбия, провозглашённый основателями религий. Благими намерениями, как показала жизнь, может быть вымощена дорога в ад. Этим несовершенный человек оправдывал иной раз свою пассивность и неверие. Обрядовый институт церкви стал ещё одним прикрытием слабостей человека. Он не мог дорасти до понимания, что выходом из положения может стать учёт высших и низших собственных качеств в целях осознанного движения вперёд. Для них было проще погрузиться в тщеславие и интриги для обретения власти и богатства.
Война приводит к миру. То и другое обостряло умы и призывало к большему осмыслению действительности. Коренная человеческая натура не считалась с тем, что лишена понимания, и продолжала проявлять себя как придётся. Мир заполнялся невеждами даже в лучшие времена.
Властные отцы внедряли религиозные обряды, носившие в этих условиях лицемерный, чувственный характер. Соблюдение церковных традиций затемняло основы веры. Из этого положения был найден выход – создание поста безгрешности в системе храмовой власти. В Риме появилось «папство».
Появление некоего наглядного и слышимого принесло некоторое удовлетворение. Храмовая религия с её чиновными ступенями продолжала привлекать верующих как особое властное учреждение с «наместником» Бога на Земле. По отношению к нему ум показывал себя как более активное начало. Чувственное начало религии мешало ему. Постепенно люди стали понимать, что труд и ум – нечто главное. Место церковной религии занял честный труд. К этому пришли протестанты в лице монаха Мартина Лютера. Только в двухсотлетнем будущем они стали верой разума и его видением будущего.
Одновременно человек продолжал считать насилие допустимым явлением, выявляющим такие качества как мужественность, доблесть, отвага. Подобные черты имели вес в освоении природы, а также в борьбе человека с человеком, и стали приносить одностороннее удовлетворение. Запутавшийся в моральных оценках человек шёл к экстремальному поведению, разрубающему проблемы добра и сохраняющему зло.
Зло смеется над добром, которое сковано собственной гуманной сутью. Доброта не вызывает у людей столь захватывающих эмоций, таких ярких и острых переживаний, которые порой вызывает сотворение зла. Оно отвечает темпераменту человека, особенно в его активном возрасте от 20 до 60 лет. Зло динамично и может сплочать людей. В результате они унижают и уничтожают не только врага, но и самих себя, а потому борются против своего будущего. Добро должно обладать защитной силой, и если надо – жестокой. В идеале оно приходит к правилу гомеопатии: «лечить подобное подобным», то есть разоблачать зло его же меньшими порциями, определяемыми разумом.
В развивающейся натуре человека продолжались конфликты. Ум успевал открыть новые возможности для проявления личности и не успевал их освоить. Разумное существо избирало цели не только чувственные.
Развитое знание – движение духа по законам бытия согласно рукотворной деятельности человека, которую он осознал как ведущую. Складывается путь, когда можно развить нечто усвоенное творческим умом и отодвинуть чувственное противодействие. Труд склонял человека к обладанию собственностью, дающей власть не только над вещью, но через неё – и над миром. Это противоречило протестантизму, но стремление к стимулу, называемому богатством, росло.
Чувство собственности – это самовластие над материальным окружением человека, подчинение его своей воле. Собственность, как и материальное тело, обладает своего рода гравитацией к источнику труда. Смешалось чувственное удовлетворение и осмысление достигнутого. Развитие собственнических черт перешло на человека. Растущее притяжение людей, как известно, может приводить к оргазму. Что тогда делать? Отвалиться в изнеможении? Это будет возврат к началу, в данном случае – к первобытному прошлому, и одновременно – рождение нового человека, который продолжит развитие предков. Всякое удовольствие содержит аспект добра. Нет его, и житейское удовлетворение носит бесцельный характер.
Проявились новые черты: прямота, резкость, сила, придающие равенству мощь, лишённую воздержания. Спектр таких черт мог не дать злу притвориться добром, а также не дать добру перейти пределы необходимой обороны и превратиться в зло.
Примером неразумных проявлений стал XIV век. Войну объявила служба инквизиции, влияние которой было большим, чем государственной власти. Это была кровавая война основ человеколюбивой веры с безверием. Христианство подверглось утверждению в формах, которые противоречили заветам четырёх Евангелий. Такая «защита» могла только опрокинуть основы веры. Добрые намерения не могут достигаться безбрежно жестокими методами. Если над верой стоит страх, то искреннего вдохновения чем-то лучшим произойти не может. Враждебность к лицу другой веры или к безверию не конструктивна. Это сказалось в так называемых крестовых походах. Их насилие противоречило христианству и не внесло лучших черт в характер человека.
Век ХVII. В Германии началась тридцатилетняя война между ортодоксами христианства и протестантами по поводу форм верования. Существо верований оставалось равным для сторон, речь шла о пролитии крови за формы верований. Можно считать это войной за формы проявления совести в то время, когда сама совесть забывалась. Внимание не обращалось и на труд, которому были также верны обе стороны. В этой вражде мы снова видим абсурдное нарушение основ во имя соблюдения её условных рамок.
Растущий разум не принимал кровавую войну верований. Возмущённый, он пытался усилить своё влияние. Нажитые жестокие наклонности, в свою очередь, влияли на человека и характер его поступков. Они уродовали натуру мыслящего существа, но и в таком состоянии он подспудно развивал свою сообразительность, совершал открытия в познании природы и техники, понимания мира и власти над ним. Большой нравственный смысл приобрели изобретения и открытия, доказывающие растущие возможности ума. Наука не только продвигала разум ввысь, но и пыталась воспитывать человека в духе понимания цельности своих поступков, а значит – добра. Необходимо признать, что достижения в области знания влияют, прежде всего, на бытовую сторону человеческой жизни, но не на нравственную. Проблемы остаются.
Как оборотная сторона явлений продолжала развиваться ложь. Она перешла в политику и стала в иных случаях основой государственности.
Появились характеры, отвергающие крайности в жизни человека, – в частности, роскошь и нищенство. Эти полярные черты неустанно напоминали о запредельном финале – смерти, уравнивающей всё, а до неё – мудрость золотой середины. Несмотря на её близкое расположение, к ней вёл нелегкий путь.
Его очередной этап.
Антагонист зла – чувство любви, – одно из начал самосохранения человека. Сначала воспринимается высокая её сторона. Осознать любовь как нечто вечное, как абсолютную нравственную ценность человеку бывает трудно. Иной раз это означает совершить над собой насилие. Если это частично удаётся, эгоизм продолжит своё существование и будет деформировать чистое чувство, проявлять свою приспособляемость к средствам лжи. Поиск стабильности приводит к пониманию любви сексуальной и душевной. Первая – шаткая. Вторая – основательная. Редко возникает равная склонность к обеим началам – следствие богатства духа. Приходит не только чувство опоры, но и душевного полёта с непреодолимым притяжением друг к другу. Мать, носительница любви, дарует тело. Отец – дух.
Человечество с его сотворения несло материнское начало. Оно, как и встарь, находит себя в продолжении живого рода. Ветхий Завет отразил это перед изгнанием человека из рая. Отцовское защитительное начало стало проявляться в условиях свободы. Разум всё больше понимал предназначение любви.
Появились черты культуры, в которых духовность всё больше становилась основой добрых дел. Поэтому важным стало внимание к текущей жизни, к политике, к постижению нового опыта, который требует масштабного человеколюбивого взгляда.
Убеждённая, что её вещественные символы вечны, канонизированная религия лишилась своей убедительности. С появлением новых поколений умственное начало делалось сильнее, жизненные впечатления становились богаче. В них, как оказалось, нелегко ориентироваться. Церковь не могла разобраться в изобилии возникающих проблем и не могла помочь спастись ни от одного зла, тем более – в предстоящем XX веке.
Человек пришёл к разделению труда. От собирания плодов земли и животноводства, – единая профессия! – он перешёл к промышленному производству, требующему разных умений и, соответственно, различных типов натуры. Они – показатель степени овладения личностью обилием возможностей. Одновременно это – фактор отделения людей друг от друга. Сменяющаяся альтернатива общения и отчуждения не вела к житейской гармонии. Разрыв усугубила интенсификация труда, стремление к получению большего количества плодов собственных усилий. Они увеличивали свой приоритет и породили более жесткое соревнование личных способностей. Началось состязание умов. У отстающих появилась зависть и чувство униженности.
Они ещё не отдавали себе отчета в том, что стремление человека к собственному развитию заложено в его генах, несущих разные возможности. Бороться с генным наследием невозможно, а следование ему приносит победы после ошибок и жертв.
Во множестве случаев труд стал порабощать человека. Та или иная профессия и её темп стали не со ответствовать внутренним возможностям. Выбор профессии стал зависеть от социальной ситуации и потому мог не отвечать личным вкусам. Интенсификация труда стала вынужденной для хозяина и работника, равно желающих получить наибольшие средства на обогащение собственной жизни. Началась эксплуатация человека человеком. Оплата труда не решала эту проблему, поскольку ещё слабо соответствовала уровню возможностей работающего и пониманию экономической логики. Началась борьба между двумя сторонами. Требовалось, чтобы эта проблема была решена. Попытки убедить в этом азартных руководителей массового производства ни к чему не приводили. Технический прогресс ослеплял их.
Реальный выход состоял в понимании прогрессивной эволюции с тем, чтобы она нашла средства ускорения технического и культурного развития производства без угнетения человека. Хозяева и работники вели такой поиск в целях более справедливого распределения продуктов труда. Заметим: общественного, а не личного. Проверка «весовых категорий» производителя и потребителя шла на рынке и на бирже, где становилась известна весомость труда, определяемая затратами на продукцию и её спросом на данный день. Такой образ действий следовал естественному отбору животной и растительной природы.
Ближе к XX веку многие стали считать, что все ценности производит только рабочий класс. Спекулятивность такого утверждения состояла в том, что нетрудовых доходов при свободном предпринимательстве и рыночной весомости в обществе нет. Странно считать честным трудом лишь непосредственное соприкосновение человека с сырьем и со сборкой деталей для конечного продукта производства. Но боже упаси, не умственный труд, не инженерный, не на расстоянии, не через выработанные экономические, технические и научные ступени. Руководство производством, финансами, технологией в условиях естественного отбора требует организационного таланта. Он сливается с трудовыми способностями. Владельцы собственности и другие, одиозные для социалистов фигуры, являются на самом деле наиболее квалифицированными работниками с умом, развитым значительно больше, чем у тех, кто занят рядовыми операциями. Праздник труда, например «1 Мая», должен выводить на демонстрации в первых рядах банкиров с предпринимателями. Но не с кроваво-красными флагами, символизирующими надуманную классовую борьбу.
Она должна быть отвергнута ещё и потому, что человек не имеет право на насилие над ближним. Это противоречит законам рынка, то есть свободного состязания. Он должен выбирать объект своего труда и вознаграждение за него, справедливые для обеих сторон. Психологическая цель – политический строй, при котором, так или иначе, найдётся соответствие чувства и разума. Мы вправе утверждать, что культ рабочего-исполнителя носит реакционный характер.
Человек обычно не любит быстро возникающих новаций, но и не ограничивается элементарным благополучием. Он переносит свои усилия на привычное удовлетворение растущих потребностей. В древности это желание рождалось от актов продолжения рода и удачного добывания пищи.
Поиск пропитания животных вряд ли можно назвать хищничеством, – в нашем этическом понимании, – поскольку оно имеет рациональные пределы. Это необходимое для выживания условие. Ему чужды излишества. Поэтому поведение животных не бывает преступным, – даже если это крокодилы. Они дают первый урок трезвого отношения к своему существованию. Зверь осуществляет жизненные функции, необходимые не только для него, но и для сохранения природного равновесия в среде обитания. Нарушить такой баланс сил – значит нанести ущерб не только среде, но и существованию множества взаимозависимых живых существ. Инстинкт оберегает от этого их самих и окружающий мир. А человек живёт именно в нём, и его чутьё срабатывает не всегда.
Такое происходит потому, что разум усложнён властностью как действительным хищничеством, то есть совершенно излишним стимулом. Человек в этих случаях не приходит к удовлетворению. Агрессивность переходит из семьи в клан, в племя, в нацию, в государство. Её цель – насыщение человека сверх того, что необходимо для его существования. Человек в этом случае лишается ограничительного инстинкта, и перед ним открывается простор бескрайней чувственной психики. Такие превращения столь сильнодействующи, что разум не всегда может справиться с ними. Появляются психические заболевания, чего животные не знают. Инстинкт продолжения рода становился не началом природного процесса, а поиском чувственного удовольствия без естественной цели.
Это, обязывающее ко многому положение, усилило страдания человека. Но инстинкт обязывал его к отбору лучшего из обилия предоставленных возможностей. Столь двойственное проявление натуры искало способы поворота на главную магистраль. И найти не могло. В поисках правды появлялась ложь. В некоторых случаях она выглядела не так страшно, хотя была не менее опасна. Снова обозначался тупик.
То же произошло с пищей. Выйдя из рамок биологической необходимости, она стала средством развития особой чувственности. Отсюда утончённая кулинария, алкоголь, курение, наркотики как растительный и синтетический продукт. А так же, как это ни странно, профессиональный спорт и некоторые виды искусств. Всё это вызывает удовольствие, но человек не учитывает, что общее количество положительных ощущений предопределено на всю его жизнь. Концентрируя их на короткое время, он тем самым как бы забирает часть своего будущего и потому умирает раньше. Получается жизнь взаймы.
Не все типы людей расположены к этому. Русские, как мы увидим дальше – нация, подверженная крайним категориям решения проблем. Возможно, что в среднем исчислении всё выглядит как оптимум. Но в максимальных проявлениях ведёт к страданиям и гибели людей.
Нравственный кризис вследствие бессистемной направленности ума дал о себе знать. Индивидуальность стала более или менее приемлемой после появления людей с разными интересами. У них возрастало значение государственной принадлежности и национальных квартир, в которых можно уединиться. Человек не всегда замечал, что его индивидуальность в этом случае обедняется, уступая место этнической, религиозной или политической замкнутости.
Национальная колыбель способна взрастить человека. Если в дальнейшем он захочет открыть глаза и развить свою человеческую сущность, то неминуемо выйдет за милые, но узкие рамки своей колыбели. Жрецом будущего своей и других наций стал Махатма Ганди.
Первородные признаки – остаточное звено в общечеловеческой деятельности. Сохранение их на первом плане в зрелом возрасте может означать намерение не входить в общую семью народов, утвердить свою ограниченность, – ксенофобию, – и одновременно проявить снисходительность к худшим членам своей национальной семьи. Значит, обеднить нацию.
Выдающийся просветитель граф А. К. Толстой в XIX веке отверг национальную ограниченность: «Я не принадлежу ни к какой стране – и принадлежу всем. Моя плоть русская, славянская, но душа общечеловеческая».
Ранние представители христианской религии были проповедниками принятия такого космополитического положения. Вспомним: «Нет ни эллина, ни иудея» (Послание римлянам апостола Павла по поводу всеобщности христианской религии). Оно говорит об общей морали людей. Такие творцы-евреи как Спиноза, Марк Твен, Гейне, Эйнштейн, Ландау и другие чувствовали себя свободными от сектантского иудаизма и его заповеди «Евреи – избранная Богом нация». Иудаизм гордится, что его представители первыми провозгласили заповеди «не убий» и др. Это говорит не об избранности народа, а об истоке общего для всех гуманистического ручья. Освобождение от чувства национальной исключительности может помочь людям добиться победы справедливости в равном признании её всеми нациями. Состязания способностей должны происходить в широчайшем круге.
Существуют явления, выпадающие из законов состязательности. Это – интимные движения души, такие как любовь, эстетическое чувство. Они глубоко индивидуальны. Любовь жаждет всесторонней близости, а этическое и эстетическое чувство – взаимодействия. Всё это тоже можно охарактеризовать как скрытый рыночный подход. Человек, научившийся видеть и понимать мир, понял эту возможность как закон подавления многообразия зла. Взаимопритяжение стало средством обогащения человека.
Мы уже говорили, что продолжают существовать издержки разума. Возбуждённый собственными возможностями, он стал толкать людей на поступки не только против общих по биологическому роду особей, но и во всеобщем масштабе. Это получило название: преступления.
Наш анализ мыслящего человека неполон. Он касается лишь его врождённых качеств, но упускает глубоко скрытые возможности этого вида живого мира. Нам ещё предстоит показать их во имя будущего. Даже в скупых рамках житейской логики люди хотели бы увидеть основу здорового общества. Открыть её помешал глобальный конфликт, нарастающий в людях в течение двух последних веков. Чувство и разум в апогее своего развития вошли в смертельную схватку друг с другом. Движение к спасительной культуре оказалось не только неимоверно трудным, но и трагическим. Появилась угроза эволюции и существованию человека. Как ни странно, человеческий ум после десятков веков своего развития пришел к демоническому периоду своей истории.
* * *На ранней исторической стадии переход от одной производительной формы жизни к другой, как мы видели, совершался медленно. Человеческое общество привыкало к новым условиям и не ощущало неприятного контраста.
Другое дело – обострившая чувства и мышление человека, индустриальная эпоха.
Несложный расчет позволил американскому футурологу Э. Тоффлеру утверждать, что человек сменил с момента своего появления на Земле 800 поколений. 650 из них жили в пещерах. И только у 150-ти поколений начался умственный прогресс. Такое развитие можно обозначить кривой, идущей сначала слабо вверх, а по том резко взмывающей. На графике линия уходит за верхний край вертикали, что означает непредсказуемость явления. Остаётся считать, что за прошедшие сто, двести лет, – в исторических масштабах это мгновение! – произошёл огромный скачок в познании и покорении мира. В руки людей пришло электричество и телеграф. Созданы паровой двигатель и двигатель внутреннего сгорания, – автомобиль, трактор, первые самолеты, ракетные двигатели, – и пущены в массовое производство. Открыта электронная система мышления и информации, – компьютеры, Интернет, – также овладевшая людьми. Изобретена мобильная беспроводная связь, – радио, – и беспроводной метод передачи изображений. Началось овладение генной инженерией, – клонирование. В огромных масштабах освобождена энергия атомного ядра. Найден ключ к раскрытию законов мироздания, – теория относительности. Люди проникли в космос, – посадка исследовательских аппаратов на Луну, Марс, кометы и спутник Урана. И многое другое. Ускорение развития – 2 к 800 или 1 к 400. Это примерно 0,25 % времени существования человека.



