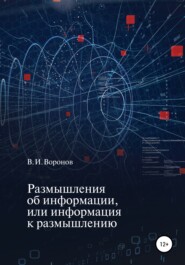 Полная версия
Полная версияРазмышления об информации, или Информация к размышлению
• целенаправленный рост клеток, например нейронов, устанавливающих межклеточные связи.
В рамках ЕНП поведение клеток объясняется регуляцией экспрессии генов и контролем синтеза белков, зависящих от внешних и внутренних факторов физико-химической природы. Такая регуляция носит сложный многоступенчатый характер, затрагивающий все стадии образования комплекса белков, специфичных для конкретного типа клеток, начиная от конфигурации хроматина в ядрах клеток и кончая посттрансляционными модификациями белков. К внешним факторам, воздействующим на регуляцию, относятся межклеточные взаимодействия, осуществляемые посредством поверхностных контактов или химических сигналов, а также физико-химические градиенты разной природы, воспринимаемые и интерпретируемые клетками.
Возникающие при регуляции разнообразные виды совместного клеточного поведения, организованные в пространстве и времени, обеспечивают онтогенез многоклеточного организма, который на каждом своём этапе является функционально согласованным и приспособленным к среде своего развития.
С физикалистской точки зрения онтогенез может быть полностью описан, если удастся определить все цепочки химических реакций, происходящих в клетках, и установить все физические факторы, воздействующие на такие реакции. Другими словами, достаточно во всех деталях выяснить принципы работы химической машины, которой является живая клетка, чтобы понять, каким образом клетки согласуют и организуют своё поведение. Однако живая клетка – это не просто химическая машина, а прежде всего информационная система, целенаправленное поведение которой определяется решениями, принимаемыми на основании информации об окружающей среде, и тезауруса, позволяющего эту информацию интерпретировать.
Но несмотря на достаточно глубокие представления об устройстве биологических клеток, по-прежнему мало что известно о тех структурах, которые необходимы для их функционирования как информационных систем. Неизвестно, каким образом в клетках кодируются рецептируемые сигналы, существует ли центр, где аккумулируется первичная информация, каким образом информация обрабатывается и запоминается, где хранится тезаурус клетки, на каком уровне принимаются управляющие решения и как эти решения регулируют экспрессию генов.
Возможно, информационные структуры клеток каким-то образом связаны со структурами белковых молекул, которые на современном уровне знаний воспринимаются лишь как ферменты, катализирующие специфические реакции, или с хроматином, который является чем-то большим, чем только хранителем и реализатором генетической информации. Но также возможно, что некоторых структур, необходимых для ИС, в клетках нет вообще, а хранение тезауруса и принятие решений осуществляется с помощью информационно связанного с клетками симбиотического организма, входящего в иерархию Наблюдателя.
Однако независимо от того, как устроена ИС клетки, в процессе онтогенеза многоклеточного организма происходят морфогенетические преобразования, связанные с возникновением или удалением функциональных органов и с образованием изначально определённых пространственных структур и форм. А для решения таких задач одних физических взаимодействий явно недостаточно.
Конечно, в более или менее простых случаях – на уровне кристаллов, вирусов и рибосом – сложные формы могут образовываться из атомов и молекул в результате самопроизвольной агрегации уже готовых наборов элементов под действием сил физической природы. Но поведение живых клеток существенно отличается от поведения атомов и биомолекул. Необходимые для построения организма клеточные элементы возникают уже непосредственно во время морфогенеза, а причины, порождающие разнообразные формы, вряд ли можно свести к физическим взаимодействиям клеток, согласованное поведение которых связано с использованием информации. Поэтому проблема, а скорее всего, тайна морфогенеза заключается в определении источника информации и способа, каким эта структурированная в пространстве и времени позиционная информация доставляется в каждую конкретную клетку, занимающую в системе координат развивающегося организма определённое место.
Можно, конечно, предположить, что в геноме зиготы такая позиционная информация присутствует изначально и, передаваясь на организменный уровень, реализуется посредством запрограммированного управления регуляцией генов в каждой конкретной клетке, обеспечивая необходимое сочетание биомолекул в нужное время и в нужном месте. Впрочем, в настоящее время механизм такой передачи информации и органы, которые могли бы осуществлять управление морфогенезом, неизвестны. Но если бы такие органы и существовали, то они должны были бы являться частью ИС, содержащей на любом этапе развития необходимые для управления элементы – каналы передачи управляющих сигналов, центр принятия решений и тезаурус, в котором отражена функциональная и морфологическая модель развивающегося организма.
Однако разнообразные факты эмбриональной регуляции, отражающие возможность нормального построения организма при различных нарушениях его целостности на ранних стадиях эмбриогенеза, указывают на то, что морфогенез не подчиняется жёстко заданной программе развития, а обладает свойством эквифинальности, то есть способностью из разных начальных состояний и разными путями достигать определённых конечных форм. Причём регуляция наблюдается, когда ещё не существует никаких клеточных структур, которые можно было бы ассоциировать с системой управления, ответственной за выбор пути развития нарушенного эмбриона.
Проблема отсутствия управляющего морфогенезом центра, как на клеточном, так и на организменном уровне, вылилась в представление о морфогенетических полях, содержащих необходимую для осуществления поведения клеток позиционную информацию.
Однако природа таких полей остаётся неизвестной, хотя, возможно, как считал А. Г. Гурвич [Гурвич, 1944], эти поля имеют биологическое происхождение и связаны с УФ-излучением, генерируемым клетками. Но в любом случае представление о поле – это не более чем фиксация факта индивидуального поведения клеток, мало что говорящая о происхождении пространственно-зависимой информации, определяющей это поведение.
С другой стороны, и проблема измерений в квантовой механике, и проблема происхождения жизни, не находящие удовлетворительного решения в рамках ЕНП, обретают ясность в представлениях ИП, допускающей независимое существование информационной реальности. В этих представлениях морфогенетическая информация не обязательно должна быть связана с материальными носителями, а может базироваться на структурах, входящих в иерархию материнского организма, проявляющегося как Наблюдатель в квантовой механике и как Творец, участвующий в создании и эволюции биологической жизни. А реализуется морфогенетическая информация в каждой отдельной клетке посредством информационного взаимодействия выбора, запускающего цепочки химических процессов, определяющих конкретное поведение клеток. И с этой точки зрения материальное тело является только частью живого организма, а другая, нематериальная его часть, находится с телом в симбиотическом единстве, дополняя недостающие элементы информационной системы. А такими элементами могут быть и долговременная память, и различные аспекты тезауруса, и центры принятия решений. Возможно, что именно ощущение такого симбиоза воспринимается нами как единство души и тела.
Описанный взгляд на источник морфогенетической информации практически полностью совпадает с предложенными Гансом Дришем [Дриш, 1915] в начале XX века представлениями о существовании нематериальной и внепространственной сущности, способной целенаправленно влиять на химические процессы в клетке, контролируя вероятности их протекания. Такую сущность, позаимствовав термин у Аристотеля, Дриш назвал энтелехией.
Безусловно, в рамках ЕНП энтелехия предстаёт в качестве непознаваемой «жизненной силы», и виталистическая теория Дриша не может рассматриваться как научная ввиду её неверифицируемости. Однако информационное понимание энтелехии как особого вида генетической информации, содержащей модель многоклеточного организма и технологию его построения, делает её полноценным объектом изучения.
Таким образом, можно предположить, что в процессе онтогенеза генетическая информация поступает из двух источников: ДНК задаёт информацию, обеспечивающую развитие организма необходимыми «строительными блоками», а энтелехия предоставляет «проектную» и управляющую информацию, организующую морфогенез индивидуального организма.
В этой связи относительно морфогенетической информации (или энтелехии) может быть сформулирован ряд содержательных вопросов. Например, о способе наследования энтелехии от родительских организмов и её согласованности с унаследованным геномом. О том, исчезает ли энтелехия с материальной смертью биологического организма или используется в иных, нематериальных, формах существования жизни. О роли энтелехии в биологической эволюции. Об иерархической структуре энтелехии, включающей морфогенетическую информацию отдельных клеток, многоклеточных организмов, социальных групп и так далее по всей иерархии биологической жизни.
Существование генетической информации, не связанной с геномом клетки, позволяет по-новому взглянуть не только на проблему морфогенеза, но и на ещё более сложную проблему гносеогенеза, во время которого сформировавшиеся функциональные органы и организм в целом получают информационное обеспечение в виде рефлексов, инстинктов, познавательных способностей и знаний об окружающей реальности, то есть начинают обладать необходимым для жизнедеятельности тезаурусом.
Действительно, предположение о том, что необходимая для гносеогенеза модельная и управляющая информация содержится в геноме клетки, требует ответа на ряд непростых вопросов. А именно: каким образом такая информация закодирована в геноме последовательностями нуклеотидов; каков молекулярный механизм чтения и передачи этой информации на организменный уровень; как реализуется эволюционное развитие и закрепление в геноме информации, связанной с окружающей средой и способами адаптации организма в этой среде?
Ни на один из этих вопросов на сегодняшний день нет ответов. И непонятно, как их получить вообще, ведь в рамках редукционного подхода, используемого в ЕНП, не просматривается даже путь от генов до морфологических признаков многоклеточных организмов, хотя между ними и существуют надёжно установленные корреляции.
Однако представление об информационной составляющей организма, не связанной с материальными носителями, эти вопросы снимает. Правда, на новые вопросы о природе существования других, нематериальных, реальностей также необходимо будет найти ответы. Но это уже не узкие вопросы биологии, а всеобщие вопросы, определяющие наше представление о структуре Бытия и о месте биологической жизни в этой структуре.
Конечно, в настоящий момент мы мало что можем сказать о второй – внетелесной – составляющей биологических организмов, содержащей морфогенетическую и психогенетическую информацию. Но это не значит, что мы имеем дело с непознаваемыми сущностями. Просто вместо физических методов познания необходимо будет использовать информационные методы и подходы. И возможно, ответы на некоторые вопросы найдутся уже в результате компьютерного моделирования морфогенеза с использованием энтелехии, сконструированной на основе наших знаний о развитии и формировании организмов.
2.6. Какая парадигма нужна психологии?
При обсуждении трудных проблем биологии особое место занимали вопросы информационного обеспечения биологических ИС. Это и вопрос о возникновении первичного тезауруса, необходимого для зарождения жизни, и вопрос о природе врождённых знаний, активирующихся в процессе онтогенеза многоклеточного организма. На наш взгляд, имеется достаточно оснований, чтобы связать происхождение такой информации с существованием внематериальных источников, таких как Наблюдатель или душа, находящаяся в симбиотическом единстве с физическим телом организма. Возможно, что подобные представления помогут также в решении ещё одного трудного вопроса науки, связанного с психикой организмов, а точнее, с психофизиологической проблемой, то есть с пониманием взаимосвязи психических и физических процессов, протекающих в нервной системе. Проблема эта стала обсуждаться ещё в XVII веке, когда Рене Декарт постулировал существование двух субстанций, составляющих живой организм – физического тела и ментальной души, утверждая тем самым дуализм реальности.
Без решения психофизиологической или, возможно даже, психофизической проблемы психологии как науке, а не как собранию фактов и методик, связанных с психикой, вряд ли удастся встать в ряд с другими естественными науками, чтобы отразить наблюдаемую реальность во всей её полноте и единстве.
Проще всего психофизиологическая проблема решается в рамках ЕНП, отрицающей существование иной реальности, кроме физической. В такой парадигме считается, что все процессы, протекающие в организме, имеют физическую основу, и, следовательно, психика также должна быть сводима к физиологии нервной системы и, в частности, к работе мозга, с которым ассоциируются основные психические процессы. Таким образом, никакой психофизиологической проблемы в рамках ЕНП просто не существует, а редукционный подход, как предполагается, позволит выявить те элементарные физиологические процессы, которые порождают психические явления.
Крайним проявлением физикализма в психологии является бихевиоризм (от англ. behavior – поведение), в котором единственным объективным феноменом психики считается поведение. При этом утверждается, что для изучения поведения достаточно устанавливать связи между стимулами, задаваемыми внешним окружением, и реакциями организма, не рассматривая необъективируемые процессы в «чёрном ящике» психики и не привлекая бесплодные понятия психологии, не имеющие физической интерпретации.
Конечно, современный естественно-научный подход не ставит под сомнение необходимость таких понятий, как сознание, мышление, воображение или воля, но по-прежнему рассматривает их как следствие физических взаимодействий в сложных биологических системах, предполагая, что со временем их удастся объективировать. Максимально лаконично эту точку зрения выразил Фрэнсис Крик [Krick, 1994], утверждавший, что «Вы… в действительности представляете собой не больше, нежели поведение огромного сообщества нервных клеток и их взаимодействующих молекул».
Конечно, нет никаких сомнений в существовании корреляций физиологических и психологических процессов. Механические и фармакологические воздействия на нервную систему отражаются на психике, также как внешние и внутренние психические воздействия приводят к физиологическим изменениям в организме. Однако физикалистский подход не даёт ответа на вопрос, каким образом осуществляется это взаимовлияние и что вообще собой представляют психические феномены. И дело даже не в том, что мы ещё очень далеки от понимания необходимых для ответа подробностей функционирования нервной системы, а в том, что с психикой непосредственно связаны не физиологические, а информационные процессы.
Понимание этого факта привело к развитию когнитивной психологии, целью которой стало изучение поведения на основе содержательного аспекта информации, используемой организмом. И хотя мы пока не знаем в деталях, каким образом в мозге реализуются такие функции, как восприятие, память или принятие решений, но ясно, что подобными возможностями должна обладать любая ИС, независимо от её физической реализации. Поэтому в качестве подхода, позволяющего устанавливать связи между информационными процессами и поведением, в когнитивной психологии используется компьютерная метафора, проводящая параллель между биологическими и искусственными ИС, основанными на вычислительной технике.
Такой подход позволяет распечатать «чёрный ящик» внутренних процессов в организме и связать поведение не с обобщёнными внешними стимулами бихевиористов, а с конкретной информацией, поступающей из внешней среды, и с тем тезаурусом, которым обладает индивидуальный организм. Фактически появляется возможность моделировать любое сложное поведение биологических организмов на основе ИС другой природы.
Конечно, мы не можем быть уверены, что те решения и те алгоритмы, которые используются при таком моделировании, повторяют процессы в реальном мозге. Однако компьютерная имитация поведения, которая уже достигла уровня искусственного интеллекта, позволяет утверждать, что в мозге происходят аналогичные информационные процессы и что те феномены психики, которые связаны с поведением, имеют информационную поддержку и не определяются непосредственно физиологией мозга.
Впрочем, с точки зрения ЕНП это утверждение не кажется очевидным, так как в этой парадигме любые, в том числе и информационные, системы представляют собой лишь определённый уровень организации материи. И, следовательно, работу человеческого мозга как материальной системы, включающей в себя ~8*1010 нейронов, объединенных 1015 синаптическими связями, также в принципе можно редуцировать до уровня взаимодействий составляющих мозг молекул. Поэтому остаётся надежда, что в результате детального изучения мозга психофизиологическая проблема окажется закрытой и психические понятия получат естественно-научную интерпретацию.
Интенсивные исследования, проводящиеся в рамках европейского проекта HBP1 и американского B. R. A. I. N.2, направлены на создание полного атласа клеточной структуры головного мозга, а также на когнитивное картирование и компьютерное моделирование мозга на разных структурных уровнях. В дальнейшем полученные результаты предполагается использовать при разработке моделей, которые смогут выявить биологические основы психических процессов.
По словам основателя швейцарского института мозга и инициатора европейских исследований Генри Маркрама, целью проекта HBP является подробное изучение мозга человека «от генетического молекулярного уровня к нейронам и синапсам, далее к цепям нейронов, макроцепям, мезоцепям, долям мозга – до тех пор, пока не возникнет понимание того, как связаны между собой эти уровни и как они определяют поведение и формируют сознание».
Однако на пути к этой цели существует два больших препятствия. Первое – это раскрытие связи между физиологией мозга и содержательным характером информации, которой он оперирует. Ведь, как упоминалось в предыдущем разделе, нет даже приблизительных представлений о том, как может решаться проблема гносеогенеза – трансформации врождённого тезауруса с молекулярно-генетического уровня на уровень нервной системы, если, конечно, такой тезаурус на молекулярном уровне существует. И вообще, если подобным образом попытаться объяснить поведение и психику ИС, обладающих искусственным интеллектом (ИИ), то придётся на основании изучения структур компьютера и физических взаимодействий, происходящих в нём, выявить содержание всех баз знаний и программ, порождающих ИИ. Вряд ли это возможно даже в принципе, тем более что на одном компьютере может быть реализовано множество вариантов ИИ.
Но даже если бы удалось преодолеть все трудности и на основании физиологии восстановить все информационные процессы в мозге, возникает второе препятствие, связанное с полным отсутствием представлений о том, каким образом такие сознательные проявления, как переживания, чувства, эмоции, понимание, воля, могут формироваться на основе информации. Ведь искусственным ИС, имитирующим биологические организмы, для осуществления поведения достаточно только информационной составляющей, а сознание не является необходимым.
Таким образом, даже подробное изучение физиологии мозга не закроет, по-видимому, психофизиологическую проблему. Однако есть ощущение, что эта проблема, как и другие трудные проблемы науки, является всего лишь следствием узости отражённых в ЕНП представлений о Бытии.
Но как было показано в предыдущих разделах, информационная парадигма (ИП), расширяющая понятие реальности, допускает существование не только физических, но также информационных взаимодействий, что позволяет по-новому взглянуть на трудные проблемы в квантовой механике и биологии и попытаться найти другие – нередукционные – подходы в познании. А такие подходы могут быть сформулированы лишь в психологии как единственной науке, изучаемые явления в которой связаны непосредственно с информацией и информационными взаимодействиями. При этом ИП снимает психофизиологическую проблему и придаёт психологии статус естественной науки, основным предметом изучения в которой является информационный аспект реальности. В такой парадигме физиология определяет лишь принципы организации биологических ИС, знания и информационные процессы формируют поведение, а сознание как информационный феномен, существующий вне материи, объединяет разные иерархические уровни организмов в единый феномен жизни, выходящий, возможно, за рамки наблюдаемого мира.
Но проблема взаимодействия между физическим и психическим в организме – не единственная проблема в психологии, которая не находит своего решения в рамках ЕНП. Любые психические явления, для которых не прослеживается связь с физическими взаимодействиями, воспринимаются как псевдонаучные.
Это и переживания в изменённых состояниях сознания, изучаемые в трансперсональной психологии, и парапсихические явления, в которых, возможно, реализуются прямые воздействия психики на окружающую реальность без участия материальных посредников.
Конечно, подтверждение достоверности хотя бы некоторых феноменов, рассматриваемых в парапсихологии, явилось бы решающим аргументом в пользу внематериального существования информационной реальности. Поэтому рассмотрим более подробно этот раздел психологии.
Парапсихические явления (или Ψ-феномены) можно разделить на две группы. К первой группе относятся явления, связанные с экстрасенсорным восприятием (ЭСВ), то есть с передачей информации по нефизическим каналам, которые не зависят ни от материальных носителей кодов, ни от известных сенсорных органов. Это, например, телепатия, ясновидение, внетелесный опыт, проскопия (видение прошлых и будущих событий). Во вторую группу входят явления психокинеза, проявляющиеся в непосредственном влиянии психики на объекты и процессы материального мира, такие как телепортация, левитация, полтергейст, пирокинез и так далее.
Вопрос о том, реальны ли эти феномены, или они результат мастерских иллюзий, до сих пор остаётся открытым, так как практически все эксперименты, доказывающие существование Ψ-феноменов, страдают общими недостатками, выводящими их за пределы требований к научным исследованиям. Это и неповторяемость отдельных явлений, и невоспроизводимость результатов независимыми научными группами, и слабый контроль во многих опытах на предмет мошенничества и наличия систематических ошибок. Но самое главное – это полное отсутствие объяснительной базы, основанной на научных знаниях, и незначительная величина наблюдаемых эффектов в случае статистического подхода. Поэтому результаты во всех случаях оказываются не столь убедительными, чтобы соответствовать критерию, предложенному Карлом Саганом: «экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств».
И тем не менее парапсихология является одним из признанных разделов психологии. Ясно, что психика большинства людей не обладает возможностями ЭСВ и психокинеза. Но она также не обладает и массой других возможностей, которые не противоречат законам физики, но которые доступны лишь отдельным людям в результате специальных занятий или врожденных способностей. А то, что парапсихические явления оказываются невоспроизводимы и что лишь небольшая доля парапсихических опытов оказывается успешной, не сильно отличает их от других сложных психических феноменов.
Поэтому, несмотря на всю очевидную близость парапсихологии к псевдонауке, можно надеяться, что хотя бы часть Ψ-явлений найдёт свое место в науке, если будет опираться на ИП, интегрированную в систему научного знания. Действительно, ИП предполагает, что информация как самостоятельная реальность структурируется в соответствии со своими – нефизическими – законами и правилами, которые определяют взаимодействия информационных объектов (И-И-взаимодействия в терминологии раздела 1.5). Но И-И-взаимодействия в информационном мире могут реализовываться и без привлечения материальных посредников, переносящих коды, а только на основе феноменального сознания – единого языка Бытия, осуществляющего коммуникационные связи вне физического пространства и времени. И это, в принципе, делает возможным существование явлений ЭСВ.
Поэтому проблема ЭСВ смещается с вопроса о том, по каким физическим каналам передаётся и воспринимается информация и какие коды или языки при этом используются, на вопрос об условиях, необходимых для того, чтобы закрытые в норме возможности ЭСВ оказались разблокированы. А то, что в нормальном состоянии психики ЭСВ не реализуется, по-видимому, является необходимым условием существования индивидуального сознания, изолированного от других сознаний данного психического уровня информационной реальности.



