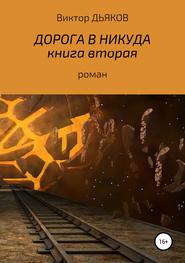 Полная версия
Полная версияДорога в никуда. Книга вторая
Впервые увидев нового комкора, пышущего молодостью и здоровьем, Стрепетов, привыкший быть моложе не только своих начальников, но и многих подчиненных, сразу стал испытывать к Агееву определенную неприязнь, хотя тот держался с ним подчеркнуто дружелюбно. Непроходяще-плохое настроение сейчас усугублялось и плохо перенесенной дорогой – тучного полковника растрясло. Данное обстоятельство способствовало возникновению несколько неожиданного, после грозных тирад вопроса:
– У тебя тут туалет где?
Я провожу, товарищ полковник, – вызвался услужить Пырков, хотя Стрепетов по-прежнему, игнорируя его, обращался к Ратникову.
Полковник хмуро перевел взгляд на замполита и милостиво согласился:
– Ну что ж… веди.
Пырков со Стрепетовым вышли. В канцелярии повисло тягостное молчание. Агеев как слепой, оставшийся без поводыря, не знал с чего начать, а все остальные ждали именно его командирских указаний.
– Может, казарму посмотрим? – наконец, неуверенно предложил комкор
Начальник тыла неслышно вздохнул, ибо ему неминуемо предстояло ответить на многие «щекотливые» вопросы, связанные с тыловым обеспечением и ремонтом… Агеев во главе свиты прошел по спальному помещению. Порядок ему понравился, все чисто, выровнено, кровати аккуратно заправлены, табуретки расставлены строго по номерам, полотенца на спинках безукоризненно чисты… Но, взглянув на потолок, полковник увидел следы подтеков и промерзшие насквозь темные углы. Не укрылось от его глаз и то, что большая часть стекол в оконных рамах составные, а не из одного целого куска, а половицы «ходят» под ногами.
– Казарма-то у вас на ладан дышит, – с интонацией, с которой, наверное, Архимед воскликнул «эврика», произнес Агеев. Он был, несомненно, удовлетворен тем, что и сам оказался в состоянии обнаружить недостатки.
Ратников промолчал.
– А что разве окна нельзя нормально застеклить? – с тем же эвристическим удивлением спросил комкор.
– Стекла нет, – чуть повысил голос Ратников, как бы давая понять, что этот вопрос должен быть адресован не ему
Но тыл не заставил себя ждать, Боярчук торопливо заверил:
– Летом все переостеклим, стекло уже получено.
– Крыша, что ли течет? – комкор спрашивал не вдаваясь, кто за что ответственен в этом ветхом помещении.
– Да течет, по весне будем перекрывать. Шифер только с месяц как завезли, а в зиму крышу нельзя разбирать, – Ратников спокойно без интонаций объяснял молодому полковнику прописные истины «точечной» жизни.
Агеев остановился возле спорт-уголка. Здесь также царил порядок: гири, гантели аккуратно уложены в ряд возле матов.
– Как у вас со спортом дела обстоят, занимаются? – поинтересовался комкор.
– Летом в основном, а зимой только энтузиасты, места мало, да и спортинвентарь негодный. Брусья уже больше полугода как сломались, у «коня» одна «нога» не выдвигается, гриф у штанги не крутится, и маты, – Ратников пнул ногой в потерявший упругость кожаный мешок, – никуда не годятся. Бойцы с таким спортинвентарем скорее травмируются, чем мышцы накачают. Потом, с гантелями проблема. Почему для войск не поставляют разборные гантели, только гири или гантели фиксированного веса, это очень неудобно. Вы посодействуйте товарищ полковник, чтобы нам с полкового склада хотя бы маты новые начфиз выдал. У него есть, я знаю, – впервые обратился с просьбой к комкору Ратников.
– Однако, как вы во всем этом разбираетесь. Наверное, сами спортом увлекаетесь? – удивился Агеев.
– Я должен быть в курсе всего, что касается жизни дивизиона, – чуть покраснел от пафосности собственных слов Ратников. Не объяснять же комкору, что его «осведомленность» в вопросах спортивных снарядов целиком и полностью заслуга сына. Именно Игорь, приехав из Люберец «просветил» отца, что набор спортивных снарядов имеющихся в дивизионе это даже не вчерашний, а позавчерашний день, он же с восхищением поведал о разборных гантелях, которыми занимался в «качалке», какое это удобное и необходимое средство в деле «накачки» мышечной массы.
– Виктор Афанасьевич, я думаю, вы решите этот вопрос, – все же не захотел слишком уж «опускаться» будущий генерал.
– Так точно,– с готовностью ответил комполка и неприязненно зацепил взглядом Ратникова. Подполковник пожалел, что унизился до бесполезной просьбы.
10
После пребывания в туалете Стрепетов несколько повеселел.
– Ну, как тут у вас? – довольно бесцеремонно обратился он к Агееву.
– Да вот, казарму смотрим… Не очень.
– Знаю… нищета, – как от малозначительного факта отмахнулся Стрепетов, и тут же вновь уверенно встал «к рулю»:
– В каких подразделениях политзанятия идут?
– В стартовой батарее и отделении боевого управления, – доложил Пырков.
Дневальный громогласным голосом провозгласил конец первого часа занятий…
– Может пока у солдат перерыв, клуб посмотрим, – робко предложил Пырков.
– Что ж, пойдем, глянем твой клуб, – согласился Стрепетов.
По дороге начальник политотдела не стал высматривать очередные недостатки – до клуба дошли спокойно. Забежав вперед, Пырков широко распахнул дверь. Клуб являлся гордостью замполита. Он вкладывал в него значительно больше души и времени, чем в другие виды своей деятельности: добывал, где только мог фанеру, доски и прочие отделочные материалы. Самые «рукастые» старослужащие отрабатывали здесь свой «дембельский аккорд». Клуб, невзрачный снаружи, изнутри представал отделанным лакированным деревом и синей драппировкой уютным помещением. Потолок был аккуратно обит разноцветными дерматиновыми квадратами, сцена из хорошо подогнанных досок, окна выложены синеватыми стеклоблоками, которые создавали приятный световой фон. Пырков включил светильники, добытые на судоремонтном заводе поселка Первомайский, за что там неделю работали трое солдат. Нежный матовый свет светильников гармонировал с «подсиненным» стеклоблоками дневным – смотрелось потрясающе.
– Ух ты! – не смог сдержать восхищения комкор. – Даже не верится. Сказка, да и только. Наш корпусной клуб конечно во много раз больше, но он не создает такого впечатления. Как вам удалось, и где такие материалы достаете?
– Стараемся, по окрестным организациям, предприятиям… – воспрял духом Пырков
– А говорите, на ремонт казармы материалов нет. Вот, можно же достать, – продолжал удивленно осматриваться комкор.
Этот «камень» метил уже в командира дивизиона.
– На клуб материалов достать можно, выпросить, на коленях постоять перед некоторыми штатскими, но на целую казарму, ни одно предприятие, даже самое крупное здесь, цемзавод, такого количества не выделит. А УРАЛМАШей и ВАЗов у нас тут под боком нет. Да и ездить просить некогда, на мне ведь дивизион, – по-прежнему спокойно отбивал нападки Ратников, не глядя на Пыркова, чье лицо светилось плохо скрываемой радостью, от того что ему удалось-таки «пойти» со своего самого крупного «козыря».
Стрепетов не впервые видел пырковский клуб и не разделял восторгов комкора. Опытным взглядом он видел, что все здесь сделано именно для эффектной показухи. По всему видно, что солдат сюда пускают не часто, иначе не смотрелся бы клуб как новенькая импортная игрушка.
Объектом проверки политзанятий Стрепетов избрал стартовую батарею. Когда вошли в класс, комбат Сивков доложил дрожащим от волнения голосом.
– Что у вас за занятие сегодня? – осведомился Агеев.
– Семинар.
– Какой вопрос разбираете?
– Подвиг русского народа в Отечественной войне 1812 года.
– Продолжайте пожалуйста, мы послушаем.
Агеев сел за свободный стол, рядом втиснулся Стрепетов, остальным места не нашлось. Забегал Пырков, принесли стулья, расселись.
– Итак, кто хочет ответить на этот вопрос? – дрожь в голосе Сивкова не проходила.
Сразу же, как по заказу поднялись три руки заранее подготовленных слушателей.
– Рядовой Зорин, отвечайте.
Некрасивый, похожий скорее на пожившего нескладного мужика, чем на двадцатилетнего юношу, Зорин начал уверенно отвечать, благополучно дошел до начала Бородинского сражения, вскользь, не подробно обрисовал и его. Сивков остановил отвечавшего, задал пару приготовленных вопросов и услышал так же заранее отрепетированные ответы. Капитан собрался уже сажать Зорина, но комкор, имевший слабость подискутировать на исторические темы, тоже пожелал задать вопрос:
– Вы рассказали о первом периоде войны 1812 года. Все хорошо, только вот на ключевом событии, Бородинском сражении надо бы остановиться поподробнее, а то возникает слишком много вопросов к вашему изложению событий. Например, чьи части, каких военачальников отличились в этом судьбоносном сражении, какой маневр русских войск сорвал атаку наполеоновской гвардии?
С военачальниками у Зорина сразу возник напряг. Назвав главнокомандующего Кутузова, и после некоторого раздумья Багратиона, Зорин замолчал.
– Ну, как же, а части генерала Дохтурова, Раевского, Платова и даже Барклая де Толли, все они под Бородино проявили себя с лучшей стороны. А в каком известном литературном произведении описаны события той войны? – задал, как ему казалось, наводящий вопрос комкор.
Зорин сделал мыслительную мину, но опять не произнес ни слова.
– Ты же в школе его проходил, – попробовал подсказать замполит…
На следующие вопросы семинара также отвечали заранее подготовленные слушатели. Агеев уже не рисковал задавать дополнительные вопросы.
– Наверное, он не самых сильных вызывает, – шепнул он Стрепетову.
– Да что вы, эти самые сильные и есть. Если вон тех копнуть, они вообще рта не раскроют, начальник политотдела кивнул на раскосых и смуглых брюнетов, специально посаженных подальше, за задние столы. – Сейчас убедитесь… Капитан подожди! – полковник властно вмешался в ход занятий, как только закончил отвечать очередной «подсадной». – Ты тут, я вижу, несколько человек подготовил, но давай-ка чуть глубже твою батарею копнем. Вот ты, солдат, – полковник ткнул пальцем в киргиза Абдылдаева.
Тот потерянно встал, вопрошая испуганным взглядом к комбату.
– Вопрос самый стандартный, – ко всем обратился Стрепетов. – В чем всемирно-историческое значение войны 1812 года?… – Не дождавшись в ответ и звука, полковник вновь спросил. – Ты хоть понимаешь, о чем я тебя спрашиваю?
Солдат по-прежнему непонимающе таращил глаза, ожидая, когда кончится эта пытка.
– А в каком году эта война случилась?
В ответ опять ни звука.
– Ты сколько прослужил? – попытался хоть что-то услышать Стрепетов
– Одын год, – наконец ответил Абдылдаев.
– А родом откуда?
– Кыргыз.
– На карте можешь показать
Абдылдаев с полминуты вглядывался в вывешенную на специальной стойке большую карту СССР. Наконец он ткнул указкой в город Фрунзе.
– Ладно, садись. Кто все-таки может ответить на мой вопрос? Вы же изучали его по этой теме, – вопрошал Стрепетов.
– Так точно, у них в конспектах все это написано, – судорожно пытался «прикрыть» себя Сивков.
Поднял руку и выразил желание отвечать лишь младший сержант Гнатов. Но Стрепетов, увидел на его гимнастерке институтский «ромбик». Гнатов был единственный со всего личного состава стартовой батареи с высшим образованием.
– Что кончал, – спросил Стрепетов.
– Сельхозинститут, товарищ полковник, – вскочив, доложил Гнатов.
– Агроном?
– Никак нет, инженер-механик.
– Ладно, садись. Еще кто может ответить?
Больше добровольцев не нашлось. Сивков дрожал все сильнее, так что неприятно было смотреть. Не удался тщательно им продуманный и отработанный заранее план. Все пошло наперекосяк из-за затянувшегося осмотра клуба. Комбат подготовил на первый после перерыва вопрос о монголо-татарском нашествии именно Гнатова. И если бы проверяющие подошли к началу часа (так бы оно и вышло, если бы не огромное желание замполита похвастать своим «детищем»), то он бы прекрасно все рассказал и так же ответил бы на все дополнительные вопросы. Сразу бы создалось общее благоприятное впечатление и все бы остались довольны, и до Абдылдаева и ему подобных очередь никак бы не дошла. Сивков не без причины рассчитывал на такое развитие событий – так случалось не раз.
– Чему вы их учите, товарищ капитан!? – не стесняясь солдат, начал отчитывать комбата начальник политотдела. Стрепетов крайне редко переходил на «вы» с нижестоящими. Это означало высшую степень недовольства полковника и не предвещало ничего хорошего. – То, что сержант знает ответ – это не ваша заслуга, а института, в котором он учился. А остальных, получается, вы ничему не научили на своих политзанятиях. Они не знают нашего прошлого, так что же они будут защищать!? Пойдемте Николай Васильевич, здесь все ясно, – заодно показав всем, что он и с новым комкором «запросто», Стрепетов двинулся к выходу из учебного класса.
Вся «свита» вышла, оставив Сивкова в жалкой позе, съежившегося, будто его сверху придавили чем-то тяжелым. Его мучила мысль-вопрос: как скажется это «фиаско» на его дальнейшей службе, не придется ли отложить на неопределенный срок лелеемую мечту о повышении, о должности НШ…
– Как же так Пырков? – за замполита Стрепетов «взялся» уже в канцелярии. – У вас политзанятия проводятся, наверное, только когда начальство с проверкой приезжает!?
– Никак нет, политзанятия проводятся регулярно, – мямлил Пырков. Он пребывал в шоке, после, как ему казалось, удачного «показа» клуба, вот такой «ушат холодной воды».
– Не видно. Сам слышал, слушатели не могут ответить на простейший вопрос, – продолжал обличать Стрепетов.
– Не знать своей истории – это позор, – поддержал Агеев. – Вы то сами, что думаете по этому поводу?
– Да ничего он не думает. Только знает, клуб свой лелеет, ездит, материалы дефицитные достает, а в дивизионе хоть трава не расти, – Стрепетов обнаружил точное знание деятельности своего подчиненного, хоть и «сидел» от него за несколько сотен километров. – Мало того, что знания личного состава на непозволительно низком уровне, тут и во взаимоотношениях солдат и офицеров конфликты случаются. Смотри Пырков, дождешься, придется ставить вопрос о соответствии тебя с занимаемой должностью, – уже конкретно пригрозил Стрепетов
Удовлетворившись страхом, напущенным на Пыркова, начальник политотдела решил перенести «огонь» на командира дивизиона:
– А ты, Ратников, куда смотрел. Сам что ли не видишь, что с политзанятиями в дивизионе завал?
Ратникова еще во время проверки политзанятий охватило недоброе предчувствие: на этом может все и закончится, не проверяя больше ничего полковники оценят дивизион низко и потом долго придется «отмываться». Необходимо было срочно спасать положение. Решение пришло мгновенно, как в боевой обстановке. Саму идею он вынашивал давно, но считал что методика политзанятий не его, строевого командира, дело, однако сейчас решил рискнуть.
– Я не вижу в том, что произошло ничего удивительного, – словно в омут головой кинулся подполковник.
– То есть как!? – Стрепетов грозно посмотрел на Ратникова, Агеев непонимающе, свита удивленно переглянулась.
На печальном лице Пыркова затеплилась надежда: «Сейчас командир зарюхается, и уже на него собак спустят, может еще и не я крайним, стрелочником окажусь».
– Дело в том, что я давно уже анализирую лекции по политподготовке для личного состава, что нам спускают в журнале «Коммунист вооруженных сил». Так вот, лекция по теме, что вы сейчас проверяли, написана так, что большинству солдат дивизиона она совершенно чужда и потому они ее, ни понять, ни усвоить не могут. И это касается не только этой темы, – без тени колебаний высказывал свои идеи подполковник.
– И с чего же ты пришел к такому выводу? – еще более нахмурился Стрепетов.
– С того, что люди, написавшие эту лекцию, в упор не видят реалий сегодняшнего дня.
– Вот так номер. Ты, Ратников лучше уж помолчи, а то я гляжу тебе своего партбилета не жалко, – пытался слегка прикрытой угрозой урезонить подполковника Стрепетов.
Но остановиться Федор Петрович уже не мог:
– Разве может вызвать у большинства солдат лекция с таким названием, если она не охватывает прошлого большинства народов нашей страны. Ведь она написана только для русских, там указаны только русские деятели и полководцы. А ведь в той же стартовой батарее русских и трети не наберется. Хоть бы для блезиру в нее Богдана Хмельницкого вставили, у нас ведь много украинцев. А как там подано монголо-татарское иго, как его объяснить нашим татарам? Ведь их предки там изображены, мягко говоря, не лучшим образом. А ведь могли бы что-то положительное и у них отметить. Например, передовую по тому времени военную организацию, железную дисциплину, полководческий талант многих монголо-татарских военачальников. Ведь не могли же, в самом деле, дикие орды, ведомые тупыми и кровожадными ханами, обложить данью Русь, дойти от Монголии до Адриатического моря, одержать столько побед? А какой интерес может вызвать эта лекция у узбеков, которых в последние два призыва к нам немало пришло. То же самое можно сказать про киргизов, казахов. Там нет ни слова про их историю. А кавказцы? Ну, грузины прочитают про Багратиона, а остальные тоже ни слова о своей истории…
– Погоди, притормози, – Стрепетов оставил свой запугивающе-начальственный тон и, похоже, не прочь был вступить в дебаты.
Но Ратников не дал себя остановить, видя, что все ему внимают, едва ли не «с открытыми ртами»:
– Те кто эти лекции пишут не хотят даже чуть пошевелить мозгами. Зачем? Взяли, содрали со старых учебников и порядок. Не надо голову ломать, а в званиях, поди, не ниже полковников, оклады соответствующие, живут в Москве. Чем не жизнь, квартиры, обеспечение, ни подчиненных, ни боеготовности, ни за что фактически не отвечают. А каков сейчас национальный состав в войсках, это им до фени…
11
Ратникова уже никто не перебивал, он замолчал сам, остановился, словно с разбега налетел на препятствие. В него вдруг исподволь стал заползать страх: что теперь будет, разве можно так говорить про людей изловчившихся достичь «степеней известных», в том числе и научных, с высоты которых он смотрится не более чем букашкой?
Оглушенный потоком нестандартных и неожиданных высказываний, Агеев вконец растерялся. Он никогда не вникал в подобные проблемы и сейчас остро чувствовал, что бесконечно далек от этих, «тащащих» здесь у «черта на куличиках» свою нелегкую службу, людей. Имея почти всю свою службу дело с подчиненными офицерами, он, что называется, солдата живьем представлял плохо и не знал того, что познают обычные офицеры, будучи командирами взводов, рот, батарей, дивизионов…
Разрядил обстановку Стрепетов.
– Успокойся, никто тебя не уполномочивал обвинять тех писак в безмозглости и безделье. Даже если ты и прав, лучше эти мысли при себе держи, и будем считать, что мы от тебя этого не слышали. Как вы считаете, Николай Васильевич? – начальник политотдела счел нужным все-таки посоветоваться с комкором.
– Да, конечно. Это очень сложный вопрос. И действительно, скорее всего, это не наше дело, там хватает функционеров, целые институты, которые работают над всем этим. Но мыслите вы Федор Петрович интересно, чувствуется что искренне переживаете за сложившееся положение вещей, – нашел нужным и подбодрить подполковника комкор.
– Десять лет дивизионом командую, было время, и прочувствовать, и подумать, – невесело пошутил Ратников.
Стрепетов, в отличие от Агеева, конечно, не растерялся от слов Ратникова. Будь он помоложе и имей впереди ясную служебную перспективу, он бы среагировал совсем по-другому. Конечно, ни должности, ни партбилета за свои высказывания Ратников не лишился бы, времена уже не те, а выговорешник и массу упреков за попытку дискредитации печатного органа ГЛАВПУРа, он бы точно схлопотал. Но Стрепетов, увы, и сам не имел перспективы – на генеральскую должность он вышел слишком поздно, на излете. Он уже не был тем пламенным проводником линии партии в войсках, как еще лет пять-шесть назад. Начальник политотдела отчетливо понимал, что «генерала» ему, скорее всего, уже не дождаться, уволят полковником. А это рождало массу проблем по увольнению, которых бы не имел отставной генерал. Стрепетов происходил из маленького подмосковного городка, где почти не велось строительство и если возвращаться туда, ему «светили» обычные для всех отставных офицеров квартирные мытарства, а здоровье-то уже не то. В общем, впереди ничего хорошего. В этой связи Стрепетов временами испытывал просто жгучую ненависть ко всем, кому удалось таки выбиться в генералы, или кому посчастливилось пристроиться служить на «теплых» местах, в том числе в редакциях военных газет и журналов, особенно центральных, московских. Полковнику пришлись по душе выводы Ратникова о пишущей военной братии, и он решил не подвергать его обструкции, а вот так, тихо все спустить на тормозах…
Дневальный объявил конец второго часа занятий. Казарма наполнилась топотом выходивших из учебных классов солдат. Тем временем в настроении командования корпуса наступил очевидный перелом. После «выступа» Ратникова, полковники чувствовали себя уже не как в начале своего визита, и даже Стрепетов утратил значительную часть своей «воинственности».
– Ну, что, пойдем столовую посмотрим? – прервал неловкую паузу начальник политотдела, как только начался третий час учебных занятий.
В столовой Ратников посетовал, что хорошо бы заменить длинные на двадцать человек столы на маленькие, как в кафе, на четверых. Начальник тыла, начал было доказывать нецелесообразность такой замены, сулящий ему лишние хлопоты, но Стрепетов его грубо оборвал:
– Закупи по своей статье, чего жмешься. Небось, прапорам своим позволяешь со складов тянуть, что плохо лежит, а для солдат столов паршивых жалеешь.
После столовой заглянули в каптерку.
– Писарь-каптенармус, рядовой Гасымов, – представился каптер. И у него царил образцовый порядок: парадное обмундирование, фуражки, ботинки аккуратно вывешены, разложены по шкафам, полки тщательно протерты от пыли, полы вымыты – Гасымов умел встретить начальство.
– Как с вещевым довольствием, всего хватает? – изобразил отческую заботу комкор.
– Так точно! – подобострастно выпучив глаза, отчеканил Гасымов.
– По результатам последней ревизии недостатков не обнаружено, – поддержал и начальник тыла, не упомянув, конечно, что до этой последней ревизии со старшины дивизиона неоднократно вычитали из жалованья за всевозможные недостачи.
Вышли на плац. Здесь стартовая батарея, согласно расписания, занималась строевой подготовкой.
– А подсобное хозяйство у вас имеется? – Агеев, как ни странно вспомнил, глядя на марширующих солдат, инструкцию совсем не имеющую отношение к строевой подготовке. То был циркуляр предписывающий: «В отдельных подразделениях организовывать подсобные животноводческие хозяйства, чтобы перевести эти подразделения на частичное самообеспечение продовольствием».
– Так точно, держим пять свиней. Желаете посмотреть? – осведомился Ратников и, получив утвердительный ответ, повел полковников и свиту на свинарник.
Цимбалюк, щеголяя непривычно чистым бушлатом, встретил у входа, доложил, что во вверенном ему хозяйстве «усе у порядке».
– Сколько у вас свиней, – обратился к нему Агеев, хотя только что выяснил это у командира дивизиона. Он совсем не знал, как держать себя с солдатами и о чем с ними говорить.
– Пять штук, товарищ полковник, – ответил вытянувшийся во весь свой долговязый рост свинарь.
Снаружи свинарник выглядел развалюхой. «Может внутри лучше», – подумал Агеев, проводя аналогию с клубом и совершенно не ведая, что представляет из себя жизнь таких животных, как свиньи. Внутри, само-собой, оказалось просто ужасно. Свиньи поглощали солдатскую овсянку, оставшуюся от завтрака. Хрюканье, визг и страшное зловоние. От увиденного… в общем, комкор поспешил ретироваться, вышел на воздух и сочувственно спросил у Цимбалюка:
– Как вы здесь выдерживаете?
– Да ничого важкого тут нема, товарищ полковник. Я с малых рокив при скотине, и мать моя у колхози скотница, – отвечал свинарь, широко улыбаясь щербатым ртом. Он был явно обрадован, что удостоился не просто внимания, а и личной беседы со столь высоким начальством.
– Так, говоришь, потомственный скотник, а чего ж свиньи-то у тебя такие тощие, длинные какие-то, одни морды торчат? – перевел разговор в критическое русло Стрепетов.
– Кормить нечем, вот они у нас такие «гончие», – пришел на помощь свинарю Ратников.
– Как нечем, вон же сколько отходов, – возразил начальник политотдела.
– Это сегодня так, овсянка на завтрак была. Ее солдаты не едят, вот она почти вся сюда и попала. А обычно на пятерых свиней очень немного получается.
– Надо же, не едят. Зажрались, однако. А говорят, у нас народ голодает, – Стрепетов презрительно усмехнулся. – Я помню в молодости студентом все, что давали жрал.
Свита понимающе заулыбалась, а Ратников с сарказмом подумал: «И где ж это там тебя овсянкой кормили, ведь ни в солдатах, ни в курсантах не был. И чтобы твой сын овсянку не жрал, тоже все что мог сделал». Ратников доподлинно знал, что Стрепетов немало постарался, пристраивая сына в московский ВУЗ с военной кафедрой, лишь бы в солдатах не оказался.



