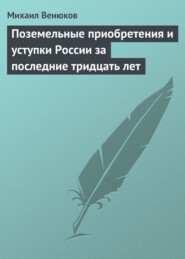 Полная версия
Полная версияПоземельные приобретения и уступки России за последние тридцать лет
Подвигаясь далее к западу от Семиречья, в пределы области Сыр-Дарьинской и всех русских владений южнее её, мы должны заметить, что в начале второй половины нашего века, т. е. едва 30 леть назад, все эти земли не принадлежали России. Правда, в 1847 году было основано близ устьев Сыра укрепление Раимское, но, собственно говоря, власть коканцев на низовьях этой реки была опрокинута лишь в 1853 году, со взятием Акмечети. Итак, все протяжение областей Сыр-Дарьинской и Ферганской, отделов Самаркандского и Амударьинского, в совокупности 19 800 кв. миль, составляет приобретение России в последние тридцать лет. Со включением южной части Семиречья (2500 кв. миль), это почти то же, что уступленные нами Соединенным Штатам северо-американские земли, а по политическому положению даже нечто более важное. Но зато экономическое значение этого приобретения есть не только нуль, но и величина отрицательная. Завоеванная страна приносит нам не доходы, а убытки, и едва-ли будет приносить что-нибудь, пока в состав русских владений не войдет весь Туркестан, т. е. вся арало-каспийская низменность, до подножий Гиндукуша и гор Хоросанских. беспокойное население страны и соседство независимых Бухары, мелких владений по верховьям Окса и обширных туркменских степей служат источником беспрестанных опасений за целость этих новоприобретенных провинций и заставляют держать там много войск, которые поглощают гораздо больше издержек, чем край приносит доходов. Пределы нынешних наших туркестанских владений на юго-востоке и юге просто нерациональны, потому что не совпадают ни с каким естественным рубежом, ни с этнографическими границами. Поэтому и по указанной сейчас политической невыгоде соседства Бухары и Туркмении, мы должны желать, чтобы эти пределы были как можно скорее перенесены на юг к водоразделам, с которых берут начало реки арало-каспийской низменности. Это, конечно, обременит нас еще 11–12 000 кв. милями степей, но за то даст возможность вдоль всей государственной границы Туркестанского края учредить русские оседлости, которыми, как железною цепью, будут замкнуты со всех сторон местности, издавна служившие ареной больших политических неурядиц и обширных народных волнений, отзывавшихся на всех соседних странах. Тогда можно будет уменьшить число войск на новой окраине, а, следовательно, и бюджет расходов её.
Против этого движения вперед, во всяком случае исторически неизбежного, нередко слышалось в 1860-70-х годах, да иногда слышится и теперь, возражение, что оно неполитично, потому что раздражает Англию. Едва ли нужно пояснять, что это возражение высказывается людьми, чуждыми не только патриотизма, но и дальновидности. Их можно бы спросить: от чего же англичане нисколько не заботятся о том, что их движения за Инд в Белуджистан, Авганистан и в Кашмир, могут не нравиться России? От чего эти англичане прямо говорят, что будут защищать Индию от России помощью туркменских шаек, хорошо вооруженных и руководимых искусными офицерами…. да не только говорят, а и действуют соответственно этим словам? Разве русский народ находится в вассальной зависимости от английского, что должен интересам его подчинить свои собственные?
Мы не станем говорить про логическую и нравственную сторону вопроса, а только про политическую. Упомянув сейчас об исторической неизбежности занятия нами всего Туркестана, мы не сказали ничего, что не истекало бы из прежних судеб его. Россия начала свое движение за рр. Урал и Иртыш с небольшим пятьдесят лет назад. Сколько ни было делаемо ею попыток остановиться хоть на какой-нибудь линии, эти попытки оказывались тщетными. Основали мы Кокчетав и Баян-аул, чтобы прикрыть от грабежей номадов наши поселения на Иртыше и на Горькой линии, и потребовалось через несколько лет основать Акмолы, Каркараны, Аягуз, чтобы прикрыть передовую линию новою, еще более выдающеюся вперед. Стали мы прочною ногою в Акмолах и Аягузе, – явилась надобность основать Улутау, Актау, Капал и т. д. Напрасно думали мы в Оренбургском крае не переходить Урала (Яика): в 1845 году пришлось основать укрепления на Иргизе и Тургае, чтобы положить предел волнениям степи, возбужденным мятежным султаном Кенисарою; основав же их, мы вынуждены были через несколько лет перешагнуть на Сыр-Дарью. Другого исхода тут и быть не могло. Занимать постепенно, полосами, все среднеазиятские степи, которые не заняты китайцами – это несчастная доля России, доля, которую она могла бы миновать только тогда, когда те же степи занял бы какой-нибудь другой цивилизованный народ с юга или востока. Но как такого народа нет, то приходится нам, одним нам, тянуть историческое тягло, которого происхождение относится ко временам нашествия Батые, и которого главные фазы суть: поездки русских князей на поклонение в орду, куликовская битва, свержение татарского ига, покорение Казани и Астрахани, переход Ермака за Урал, подданство Аблай-хана, основание русских колоний в степях, покорение Ташкента, поход в Хиву, плен коканского хана и пр. Пусть кто-нибудь из политиков, противящихся поступательному движению России в Средней Азии, докажет, что между этими событиями нет роковой связи, как между частями одной волны, из отливной, обратившейся в приливную. Если же доказать этого нельзя, то, разумеется, нам остается искать всех средств, чтобы движение было как можно менее обременительно для русского народа и поскорее окончилось покоем у прочного берега. Берег этот и виден уже в недальном расстоянии, причем та пристань, которой особенно нужно искать, лежит в верховьях Аму-Дарьи, у подножия Гиндукуша, в Вахане, Бадакшане, Кундузе, Хульме, Балке, Серипуле и Майменэ, населенных таджиками и узбеками и лишь недавно подпавших под власть авган. Только что обнародованные результаты смелого путешествия в эти страны полковника Гродского позволяют думать, что поставление этих местностей в зависимость от России не только не встретит препятствия со стороны местного населения, но даже будет поддержано им, так как узбеки и таджики не любят авганцев и, напротив, хвалят русское господство над их соплеменниками в Туркестане. Движение наше в эти места, часть которых еще недавно принадлежала вассалу России, эмиру бухарскому, не представляет больших трудностей, так как дороги проходят большею частью по странам возделанным, и во всяком случае оно несравненно легче, чем напр. экспедиция в Мерв, о которой теперь говорят некоторые журналы и которая, в действительности, представляется почти неимеющею смысла и может представить не мало трудностей. Мервский оазис не замыкает арало-каспийской низменности с юга и должен, по всей вероятности, стать внутренним владением России, а не пограничным, подобно тому, как станет внутренним же владением Хива. Его, поэтому, гораздо лучше обойти с юга, по балхо-гератской дороге, чем аттаковывать с севера, где он находит защиту в страшных пустынях, тянущихся между Мервью и Чарджуем.
Следуя географическому порядку, мы должны бы теперь сказать несколько слов о приобретениях, сделанных с 1850 года в Закаспийском крае. Но, собственно говоря, таких приобретений почти нет, а есть только упрочение русской власти в северной части этого края, по крайней мере, на Маггышлаке, до основания Красноводска и двух-трех укрепленных постов на линии Атрека, где мы скорее являемся осажденными, чем повелителями. При этом любопытно, что, по совершенно непонятным причинам, нами с 1869 года добровольно сокращен район основанного в том году Красноводска через признание северною границею Персии не Кара-су, как было в действительности, а Атрена, на всем нижнем течении которого оседлые поселения почти невозможны вследствие пустынности края, малого количества воды в реке, её горько-соленого вкуса и трудности развести ее, из глубокого ложа, по оросительным канавам. Результатом этой ошибки вышло то, что если бы нужно было выразить цифрами пространство земель, подвластных России в красноводском приставстве, то пришлось бы написать: две-три квадратные мили, т. е. лишь те местности, которые находятся под огнем Красноводска, Чата и Чикишляра. Правда, нами установлены сборы с иомудов, проводящих зиму в Персии, а лето на севере от Атрека; но это не значит, чтобы названные туркмены стали русскими подданными. Думали было мы расширить сферу нашего влияния завоеванием сразу большой полосы земли вдоль по Атреку и по северной подошве Кепет-дага; но экспедиция прошлого 1879 года, предпринятая в больших размерах, не удалась, как то и имел смелость предсказывать автор этих строк и в своих письмах к некоторым военным лицам, близко стоявшим к делу, и даже публично, в одной из больших газет (Бирж. Вед. 1878 г. № 92). Заметим при этом, что та же экспедиция, и притом сопряженная с гораздо меньшими пожертвованиями, непременно была бы успешною, если бы ее предпринять не в 1879 году, а напр. в 1872 или 1874-м, когда туркмены были под впечатлением страха от первого появления русских и от разгрома Хивы, когда английские агенты еще не проникали к ним и не снабжали их деньгами и оружием, когда, наконец, Персия относилась благосклонно ко всем нашим движениям, имевшим целию остепенить туркменских хищников, делавших набеги под самые стены Астрабада, Мешхеда и пр.
Сводя теперь результаты территориальных приобретений и уступок России в пространстве на восток от Каспийского моря до Тихого океана и принимая, на основании вычислений Стрельбицкого, несколько фиктивную цифру пространства Закаспийского военного отдела, в 5940 кв. миль, мы находим, что нами с конца 1850 по 1 января 1880 года.
Приобретены:
Остров Сахалин – 1.290 кв. м.
Амурский край – 11.000 кв. м.
Долина Бухтармы и призайсанские степи – 900 кв. м.
Южная часть Семиречинской области – 2.500 кв. м.
Фергана, Сыр-Дарьинская область, Самаркандский и Аму-Дарьинский отделы – 19.700 кв. м.
Засаспийский отдел – 5.940 кв. м.
Итого – 413.30 кв. м.
Уступлены:
Северо-американские колонии – 23.000 кв. м.
Курильский архипедаг – 90 кв. м.
Итого – 23.090 кв. м.
Разница приобретений и уступов, составляющая чистую прибыль – 17.340 кв. м.
Кроме того взят во временное владение Кульджинский округ – 900 кв. м.
Итого – 18.240 кв. м.
Для приобретения рациональных границ кажется полезным или даже необходимым:
Присоединить еще:
Бассейны озера Ханкая и реки Суйфуна – 120 кв. м.
Бухару, Хиву, Туркмению и Авганский Туркестан – 13.000 кв. м.
Итого – 13.120 кв. м.
Уступить:
Зазайсанский край – 400 кв. м.
Кульджинский округ – 900 кв. м.
Итого – 1.300 кв. м.
или, в окончательном выводе увеличить русскую территорию на 11 820 кв. миль, причем государственная граница будет идти, начиная от юго-восточного угла Каспия, по подножию гор Хоросанских, Паропамиза и Гиндукуша, по водоразделу между бассейнами Окса; Яксарта и Иссык-Куля с одной стороны и Тарима с другой, до горы Хан-Тенжи, по Чарыму, Джунгарскому Алатау и поперек хребта Тарбагатая к западному концу Зайсана, оттуда же к Шабин-Добачу и далее до устья Мурели в Усури по существующим рубежам, а, наконец, по хребтам, отделяющим озеро Хемской от Мурени и бассейн Суйфуна от водоемов Хурки и Тумени, а потом по низовью этой реки. Все, что лежит вне этой черты, было бы напрасным обременением России; напротив, все, что заключается внутри её, составляет естественную государственную область русского народа.
Переходя с восточного берега Каспия на западный, мы вступаем на почву Кавказа. Здесь, как известно, в 1850 году были две довольно обширные, независимые от Росеии, земли: в Дагестане и Чечне – государство Шамиля (500 кв. миль) и за Кубанью и Лабой, до Черного моря (950 кв. миль) – хаотическое смешение независимых горских племен. Обе эти земли теперь принадлежат уже России; но условия, при которых состоялось это присоединение горских земель к России, были не одни и те же, а потому последствия сделанных завоеваний очень различны. Русский народ никогда не должен забывать великих государственных заслуг графа Евдокимова, изгнавшего горцев с западного Кавказа. Эта земля теперь стала существенно русскою, и неудачная попытка турок на восточном берегу, Черного моря, в 1877 году, лучше всего доказывает, что тут власть ислама не восстановится никогда, именно потому, что по всему этому берегу нет горцев. К сожалению, по удалении черкесов из этой береговой полосы, не было принято энергических мер для заселения её, а какие поселения и возникли, то они заняты инородцами, греками, болгарами, румынами, а не русскими, чуть ли не потому, что в Тифлисе русские не считаются годными к мореплаванию, морских промыслам и торговле, хотя деятельность их на Каспийском море могла бы доказать противное. Будем надеяться, что эта ошибка скоро исправится, и что коренной закон политики, чтоб окраины государства были заселены господствующим племенем, восстановится во всей силе. Черноморский и Сухумский округи станут тогда простым продолжением Кубанской области, с которою они так тесно связаны географическим положением и историей. Железная дорога от станицы Кавказской на Белореченскую и потом по долине Питша на Туапсе, где можно устроить порт, вероятно, также не останется неосуществленною, так как от проведения её много зависит экономическая участь благодатнейшего края России.
Совсем не то, что западный Кавказ, покоренный не далее 1864 года, представляют бывшие владения Шамиля в Чечне и Дагестане, вошедшие в состав русской державы с 1859 года. Тут мы не только оставили горцев на их родине, но даже препятствовали удалению в Турцию тех из них, которые желали того. В результате получились многочисленные бунты, благодаря которым еще в 1877 году, т. е. через 18 лет после пленения Шамиля, мы должны были в двух небольших внутренних провинциях держать 30,000 войска, которые могли бы быть с пользою употреблены в это время на турецкой границе. Вероятно, впрочем, урок 1877 года не пройдет даром, и если не мы, то наши дети увидят Дагестан и Чечню прочно умиротворенными и постепенно сливающимися с Россиею, как слились с нею царства Астраханское и Казанское.
В Закавказье важную перемену в очертании государственной границы произвели условия берлинского договора 1878 года. К России присоединены Батум и Карс, два пункта большой важности, первый – торговый, второй – военный. Мы еще не имеем окончательной карты новой граничной черты, но те данные, которые вошли уже в научный оборот, показывают, что объем наших приобретений в Армении и бывшей турецкой Грузии составляет 468 кв. миль. Это немного в количественном отношении, но важно в качественном. Богатая лесная Батумская область и несколько степная, но плодородная Карсская могут дать место для довольно обширной колонизации из малоземельных русских провинций; стратегическое положение наше за Кавказом значительно усилено; значительная часть христиан-армян освободилась от турецкого ига и получила возможность мирно трудиться для своего преуспеяния. Но мы не должны из-за этих выгод забывать и некоторых неудобств завоевания 1877-78 годов, именно усиление армянского населения в Кавказском крае, где оно и без того постоянно служило источником неприязни к России со стороны всех прочих инородцев. Торгаши армяне, становясь под защиту русских законов и особенно русских властей, к которым умеют подлаживаться, жестоко эксплоатируют все остальное население Кавказа и не дают ему возможности тесно слиться с русскою нациею. Они, кроме того, являются сильными эксплоататорами самой русской казны в виде поставщиков, подрядчиков, откупщиков и т. п. Наконец, у них, под русским владычеством, начали возникать стремления к восстановлению независимого армянского государства, значительно расширенного против исторических пределов армянской национальности через возникновение, в XIX веке, больших армянских колоний в тех частях Кавказского края, где армяне едва были терпимы, как бродячие торгаши. Поэтому, становясь на национально-русскую точку зрения, которую, кажется, нельзя обвинить в узкости, мы можем пожелать, чтобы дальнейшего присоединения к России армянских земель не было, и даже чтобы те земли бывших санджаков Карсского и Батумского, которые оставлены турками, курдами и лазами, ушедшими в 1877-79 годах в Турцию, были предоставлены в пользование не армян, а собственно русских людей, особенно сектантов, которые свои превосходные колонизаторские способности уже доказали множеством примеров.
Берлинский трактат, признавший за Россиею обладание Батумогь и Карсом, утвердил за нею и возвращение большей части того клочка земли в Бессарабии, который был потерян в 1856 году по Парижскому договору. Клочек этот, величиною не более 153 кв. миль, имеет большую важность: он господствует над нижним Дунаем и, следовательно, ставит в известного рода зависимость от России не только мелкие государства Балканского полуострова, по даже Австрию. Хотя по условию берлинского договора на берегах Дуная, ниже Железных ворот, не должно возникать крепостей, но и без того во власти России пресечь судоходство по этой реке для всякой враждебной ей нации, так как у Рени и вообще от устья Прута до начала дельты, весь Дунай находится под выстрелами русских пушек. Сверх этой стратегической важности обладание нижним Дунаем имеет и промышленную: наше пароходство имеет ныне в своем распоряжении национальную русскую пристань для торговли предметами, которые производит богатая от природы нижнедунайская низменность. Наконец, важно и то, что Россия возвращен край, который именно она сделала цветущим не далее, как в первой половине нашего века. Болгарские и иные колонии в южной Бессарабии есть одно из лучших произведений русской политики, которая, к сожалению, дала только слишком преобладающее значение инородческим элементам там, где следовало бы покровительствовать предпочтительно коренному русскому.
Но, указывая на важность и выгодность возвращения Измаильского уезда, мы не должны упустить из вида и проистекающего из него неудобства. Отныне, и на долгое время, Россия имеет на бессарабской границе рьяного врага в лице Румынии, которой очень не хотелось расстаться с богатыми болгарскими и другими поселениями в бывшем Буджаке. Конечно, большая часть сварливых действий бухарестского правительства, бывших в 1878-79 годах, объясняется подстрекательствами извне, главным образом, из Вены и Берлина; но как бы ни было, мы можем почти не сомневаться, что Румыния станет непременно в ряды коалиции против России, если такая коалиция образуется, и целью её при этом будет, конечно, не один Измаильский уезд, а и вся Бессарабия, где в составе населения так много румын. Вот почему создание хорошего опорного пункта в угле, образуемом Дунаем и Прутом, нам представляется делом разумной предусмотрительности.
Делая теперь общий взгляд на приобретения России, сделанные с 1851 года на западе от Каспийского моря, мы видим, что они не особенно велики по объему (1918 м., если не считать южной части Бессарабии); но нет сомнения, что они важны по их политическому значению. Закончено ли ими наше движение к югу, или они составляют только промежуточный шаг к дальнейшим присоединениям? Про некоторые местности, напр. про Бессарабию, можно с уверенностью сказать, что дальше Россия не пойдет, разве если потребуется её помощь для балканских мелких государств, угрожаемых напором германизма; но и тут территориальные приобретения сомнительны, да, по справедливости сказать, и не нужны. Что касается до границы с Малою Азиею, то мы не можем забывать, что, по конвенции турецкого правительства с Англиею, последняя обязалась блюсти за целостью малоазиятских владений султана; но, впрочем, придавать этой конвенции особого значения не следует. Англия умеет в удобные минуты заключать подобные договоры, дающие ей несомненные выгоды (напр. в данном случае приобретение Кипра), но она не начнет войны из-за соблюдения их, если не будет видеть новой прямой выгоды для себя и особенно если останется единственною союзницею Турции. Она предпочтет разделить владения султана между Россиею и собою, лишь бы при этом на её долю досталась львиная доля, напр. все малоазиятские берега в Средиземном море и особенно Дарданеллы и Босфор, к завладению которыми она так усердно стремится.
М. Венюков.Женева, январь 1880 года.Сноски
1
Цифра эта, быть может, несколько более истинной, в виду сомнительного очертания на картах северного берега Азии, где важные неточности обнаружены Норденшильдом.
2
Не касаясь, впрочем, колонии Росс на берегу Калифорнии, которую мы добровольно оставили еще в 1846 г., пред самым открытием в соседстве её, на Сакраменто, золотых приисков.
3
Средние годовые температуры равны: в Николаевске 2°,7, в Петрозаводске 2°,5, во Владивостоке 4°,7 и в Курске 4°,9; наиболее жаркий месяц в Курске имеет ср. тем. 19°,3, а во Владивостоке 20,5°; наиболее холодный в Курске – 9°,9, во Владивостоке – 13° Ц.; впрочем, цифры эти не особенно точны.
4
Собственно говоря, одного из них, Будогоского, который, имея в своем распоряжения обширные средства для предварительного обследования страны в 1859 году, что дало бы возможность придумать разумную границу, ограничился весьма поверхностными съемками и не дал не только точного, но и никакого описания осмотренной страны. От того верховья Суйфуна и северный берег Ханкая остались во власти Китая, которому если они и нужны, то лишь для того, чтобы производить давление на Россию.
5
У которой однакож русскими казаками издавна производилась рыбная ловля, так что собственно одна эта часть Зайсана и была нам нужна.

