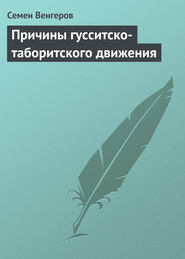 Полная версия
Полная версияПричины гусситско-таборитского движения
Мы не будем приводить дальнейших образчиков степени власти чешских королей, потому что и приведенные выше показывают, что политической свободы в Чехии было достаточно. На политической почве не только такое грандиозное движение, как гусситское, но и простая фронда не имела бы возможности возникнуть в Чехии.
Прибавим только в заключение одно сведение, касающееся самого момента гусситско-таборитского взрыва и дорисовывающее картину социально-политического положения Чехии в эпоху возникновения революционного движения.
«В правление Вячеслава IV (ум. 1419 г.) Чехия была страною наименее обложенною податями и поборами во всей Европе»[55].
Чтобы вполне оцепить значение этого факта, следует еще принять в соображение, что Чехия при Вячеславе IV не только вообще мало была обложена податями, но что она при этом короле была меньше обложена, чем при отце Вячеслава – Карле IV. Следовательно относительно экономического положения в народе должно было господствовать известное довольство, не могшее не усилить приверженности в королевской власти. И действительно, история нам свидетельствует, что в благодарность за то, что Вячеслав «не обременял народ большими податями, он был любим народом»[56]. Король «сам часто в простой одежде имел с народом сношения и таким образом наблюдал за сохранением закона и справедливости»[57].
Во всех народных протестах последний король-тиран или последние стеснительные тягости играют значительную роль. Своими недостатками Карл I ускорил революцию 1649 года, своею жестокостью вызвал Яков II революцию 1688 года, своею нероновскою кровожадностью Христиан II заставил шведов взяться за оружие. Людовик XII сам по себе не возбудил бы, конечно, народного протеста, но система его предшественников продолжала держаться. Рана, следовательно, продолжала зиять, продолжала гноиться, причинять смертельные муки и ответственным за них, по всей справедливости, являлся лично благонамеренный Людовик XVI. Карл X, Фердинанд Бомба и т. д., и т. д…. Было бы слишком утомительно перечислять всех сверженных, изгнанных королей, королев, герцогов, – все они своею личностью служили окончательным толчком назревавшей революции, все они какими-нибудь своими распоряжениями вызывали финальный взрыв. В чешском же движении, которое и без того не имело причин жаловаться на политический или экономический гнет, не было даже этой последней капли, переполняющей чашу народного долготерпения.
IV
Но может-быть гусситско-таборитское движение было протестом национальным? Может-быть дело просто сводится к борьбе двух рас?
В ответ на это прежде всего следует сказать, что национальную вражду уже по тому одному нельзя причислить к степенным факторам этого движения, что к началу его были устранены все причины, которые могли бы питать национальное озлобление. Национальная вражда зачинается в Чехии лет за двести, до проповеди Гусса, вызывает в течение этих двух столетий ряд протестов, более или менее сильных, и дело кончается тем, что чехи становятся полными господами своей страны, отодвигая прежде торжествовавших немцев на второй план. Эта окончательная победа относится как раз в началу XV века, то есть к началу рассматриваемого нами теперь движения. Но, конечно, воспоминания о только-что окончившейся борьбе были еще свежи и не один кровавый эпизод гусситских войн произошел под их впечатлением.
«В эпоху от Премысла-Оттокара первого (ум. 1230) до короля Яна (ум. 1346) некоторое время дело шло о том, быть или не быть чешскому народу и его языку. Когда прекратился старинный княжеский род; когда, по его примеру, шляхта начала жить по-немецки; когда немецким пришельцам отданы были лучшие города для производства городских ремесл и на всей границе протянулась полоса немецких земледельческих колоний, проникших местами и в глубь Чешской земли, – тогда могло показаться, что для славянского племени в Чехии настала такая же тяжелая участь, какою оно было уничтожено в Мейссене, в Бранденбурге, в Силезии, в Поморий и в других местах»[58].
Последнее, однако, не произошло потому, что в Бранденбурге и Помории немцы натолкнулись на первобытный народ, а в Чехии общеевропейская образованность еще в XII веке стояла на довольно высокой ступени развития. Но все-таки немцы были культурнее и потому на первых порах Чехия не могла им оказать равносильного культурного противодействия. Такая слабость длилась однако же не долго. Способные ученики, чехи, в течение XIII столетия во всех отношениях догоняют своих учителей и уже в самом начале XIV столетия начинается очень сильное национальное движение. К этому времени относится знаменитая хроника Далимила, которая приобрела самую широкую популярность. Она дышит ненавистью к немцам и полна самой возвышенной любви к родной земле, родному народу, родному языку. Чехи желают быть господами своей земли, тем более, что они начинают совершенно расходиться в нравственных понятиях с пришлыми немцами.
Вражда чехов и немцев ни в каком случае не была враждой двух рас. Это была вражда двух различных душевных строев, двух миросозерцаний, друг другу почти диаметрально противоположных. Если сопоставить вольную славянскую общину и немецкий феодализм, немецкую средневековую распущенность и чистоту чешских народных нравов, немецкую схоластику с её мертвящим буквализмом и дух критики, так рано пробудившийся в Чехии, – если все это добросовестно сравнить, то мы должны будем вполне оправдать чехов, которые возненавидели немецких пришельцев, внесших дух разложения в старую чешскую простоту.
И чехи были еще вдвойне правы в своих национальных чувствах, так как они вовсе не требовали изгнания немцев или уменьшения их прав, а желали лишь отмены, данных пришельцам в ущерб правам коренного населения.
«Король бегемский должен поставить свой народ во главе, а не в хвосте, – пишет один из чешских патриотов, Ян Иесеница. – Ему должно быть уделено первой место, а не последнее. Как канонический закон, так и гражданский согласны между собою в том, что управление должно быть в руках туземцев»[59].
Таким образом мы видим, что чешский патриотизм не предъявлял никаких исключительных требований. В сущности эти требования не были даже вполне национального характера, а носили на себе довольно сильный политический оттенок. Дело в том, что, раздавая свои земли немецким эмигрантам, чешские короли создавали себе опорный пункт помимо большинства населения и этим, конечно, усиливали свою власть в ущерб народной.
Не следует, однако, преувеличивать значение данных немцам привилегий и степень вызванного ими озлобления. Давать привилегии короли могли только в городах, и то не во всех, а лишь в так-называемых «королевских». Сельское же население, то есть тот элемент, который придал гусситству его устойчивость, эти привилегии мало затрогивали. Так, наприм., в «королевских» городах действительно «немецкие колонисты были главными панами; язык их введен был в судах и городских учреждениях; его употребляли устно, а впоследствии также частью в грамотах, наравне с самым употребительным до тех пор латинским; источники (кодексы) немецкого нрава, по которому судили в городах, были большею частью также писаны по-немецки. Чешские жители городов, пока они находились там вместе с немцами, должны были учиться по-немецки, если хотели иметь хотя малейшее участие в ратманстве и городских должностях, или обойтись в служебных занятиях без юридических представителей или ораторов. По примеру городов поступали городские училища и духовенство в костелах»[60].
Так дела обстояли в городах, где вначале большинством населения были немцы. Но только в городах.
«Напротив того, язык чешский не потерял нигде привилегированного права своего в земском судопроизводстве, как в округах, так и в высшем суде в Праге. Юридический язык сохранился там во всей своей стародавней свежести при устном и открытом производстве, также как и самое право нигде не отступало от первоначального своего славянского происхождения»[61].
Следовательно сильное озлобление против немцев могло иметь место только в городах. Так оно действительно и было. Сельское же население, которое, как мы уже выше заметили, дало гусситству его главную силу, за исключением тех сравнительно немногочисленных местностей, где селились немецкие колонисты, не имело специальных причин озлобляться. Если же мы во время гусситских войн замечаем сильную ненависть к немцам именно среди простого люда, т. е. главным образом среди крестьянства, то это потому, что слова «немец» и «католик» были тогда синонимами. Немцы составляли ядро крестоносного ополчения, пришедшего вернуть чехов в лоно римской церкви, немцы беспощадно разоряли страну, немцы являлись главным препятствием к насаждению «царства Божьего». Оттого-то их так и возненавидели чешские сельчане. Но эта ненависть, повторяем, была самого недавнего происхождения и до гусситско-таборитского движения была сильна только у чешских горожан.
Но и озлобления городского населения, с течением времени все увеличивавшегося, было достаточно, чтобы задолго до Гусса заставить королей изменить антинациональную политику. Так, наприм., уже Карл IV «не поколебался дать постановление, чтоб язык чешский был в свободном употреблении в городских ратушах и чтобы поэтому ратманы в королевских городах не были только из немцев, а также чтобы немецкие мещане, как живущие между чехами, отдавали детей своих учиться чешскому языку. При огромной автономии, которою пользовались тогда городские общества, закон этот не удалось всюду провести легко, но он был большим подкреплением чешскому мещанству, усиливавшемуся все более и более»[62].
Карл IV был вообще чешский патриот и, будучи в одно и то же время чешским королем и германским императором, он отдавал предпочтение чешскому языку не только пред немецким, но даже пред латинским, игравшим в средние века такую же роль, как теперь французский. Любовь в родному наречию была так сильна в Карле, что особенною статьей так-называемой «Золотой Буллы» он постановил, чтобы сыновья курфирстов и других немецких князей учились чешскому языку, «как важному и необходимому в государстве»[63].
Такой же национальной политики держался и преемник Карла, Вячеслав IV. Особенно капитальных постановлений для уравнения прав чехов и немцев ему издавать не зачем было, так как самое существенное в этом направлении уже было сделано Карлом. Национализм Вячеслава выражался в его тесном сближении с народом и душевной симпатии ко всему чешскому. Двор его был вполне чешский, а не немецкий, как прежде. Одна только оставалась важная привилегия у немцев – главенство в Пражском университете. При Вячеславе и этот последний остаток прежних немецких льгот с большим эффектом уничтожается навсегда. При нем произошел знаменитый спор четырех «наций» в Пражском университете, послуживший прелюдией гусситского движения. Этот спор окончательно уравнял права чешской народности и даже доставил ей преобладание.
Подробностей его мы излагать не станем и только в общих чертах напомним о нем читателю.
Сущность спора заключалась в несправедливом устранении чехов от равномерного участия в управлении Пражского университета. При основании его подавляющее большинство студентов и профессоров были немцы и потому разделение на три иностранные корпорации или «нации», с тремя решающими голосами, и одну чешскую, с одним голосом, было вполне справедливо и не возбуждало неудовольствия в чешской среде. Но с течением времени количественное, и качественное отношение «нации» значительно видоизменяется. Студенты-иностранцы, стекавшиеся в Прагу со всех концов Европы, по-прежнему составляют большинство, но уже далеко не такое подавляющее, как вначале. Что же касается профессорского персонала, то славянский элемент составляет в нем половину; а если взять во внимание не только количество, но и качество, то гораздо более половины, так как лучшие профессора – те, которые придавали Пражскому университету блеск и значение – в начале XV века были все чехи. Прежде, когда туземных сил было мало, университет не щадил средств, чтобы привлечь наиболее знаменитых в Европе магистров и докторов. Но когда чехи, быстро усвоивши себе общеевропейскую науку, выставили целый ряд первоклассных ученых, университету уже не было надобности вызывать дорогостоящих крупных иностранных ученых.
Такое перемещение центра тяжести Пражского университета естественно должно было вызвать в чешской «нации» желание большего влияния на университетские дела. Чехи потребовали себе половины голосов, находя, что в чешском университете чехи должны, по крайней мере, пользоваться равными правами. Но немцы и слышать ничего не хотели, опираясь на данные им когда-то привилегии. И может-быть долго еще продержалось бы безусловно-несправедливое распределение голосов, если бы около 1409 года вопрос о том, можно ли с кафедры обсуждать «еретические» пункты Виклефа, не обострил положения. Немцы желали наложить решительный запрет на нечестивого англичанина, осмелившегося отрицать власть папы; чехи же и не думали им, возмущаться. Но так как юридическое большинство было на стороне немцев, то они и намерены были воспользоваться им, чтобы вполне пресечь распространение идей оксфордского богослова. Эта нетерпимость, шедшая совершенно в разрез с назревшим в Чехии стремлением к реформе, переполняла чашу долготерпения чешской «нации» и своею настойчивостью она добивается у патриотически-настроенного Вячеслава так называемого «кутногорского декрета», по которому чехам было предоставлено иметь три голоса, а всем иностранным «нациям», вместе взятым, один. Немцы не снесли обиды, и в 1409 году немецкие магистры и студенты, в количестве 5 000 человек, в торжественной процессии, оставили Прагу навсегда.
Демонстрация вышла крайне внушительная. Часть пражского населения была искренно огорчена. Это были те лавочники, портные, сапожники и т. д., которые кормились студенческими заказами. Нельзя, конечно, отрицать и того, что потеря такого огромного числа слушателей была чувствительна также и для университета. Но для национальной партии удаление немцев было одним из самых блестящих триумфов её. С уничтожением университетских привилегий пало последнее различие между чехами и пришлыми немцами, – они стали вполне равноправны. А это было все у к чему стремились чешские патриоты. Когда благороднейшего из них, Иоанна Гусса, упрекали в узком национализме, в желании стеснить права других национальностей, он с негодованием отвергал это. На Констанцском соборе его обвиняли в том, что он «изгнал» немцев из Праги только за то, что они – немцы. «Христос знает, – ответил на это обвинение Гусс, – что я больше люблю хорошего немца, чем дурного чеха»[64]. Правдивость Гусса стоит слишком высоко, чтоб усомниться в искренности его слов. И так как Гусс был представителем всей чешской национальной партии, то мы из этого видим, что на своем знамени она написала принцип равноправности, а ни в каком случае не поглощения.
Впрочем для нас в данном случае, то есть в вопросе о том, можно ли считать национальную вражду первостепенным фактором гусситского движения, совсем и неважно, на широких или узких принципах покоился чешский патриотизм. Для нас решающее значение имеет то обстоятельство, что пред самым началом движения национальные стремления чехов получили окончательное удовлетворение. Конечно, враждебное отношение обеих народностей не прекратилось с юридическим уравнением их прав. Немцы ненавидели чешских «варваров», отрицавших их превосходство, а чехи еще живо помнили прежнее неравенство. Между чешскими вожаками были такие, как Мишка, которые смертельно ненавидели немцев.
Было бы крайне ненаучно с нашей стороны отвергать, что на одушевление гусситского войска известную долю влияния имело желание отомстить тому народу, при посредстве которого мутная волна средневековой распущенности нашла себе доступ в патриархальную Чехию, – тому народу, который внес в вольную чешскую жизнь разлагающие начала феодального гнета и неравенства. Но все-таки мы не можем тут усмотреть первостепенного фактора, потому что первостепенною причиной можно назвать только такую, которая сама по себе была бы в состоянии произвести то или другое явление. А вот этого-то в данном случае никак вообразить себе нельзя. Чтобы в самом деле написало на своем знамени гусситско-таборитское движение, если бы оно проистекало из национальных чувств?… Изгнание немцев из Чехии? – Но мы уже знаем из ответа Гусса, что ничего подобного не было в намерениях чешских патриотов и дальнейший ход событий нам покажет, что в минуты самого блестящего торжества своего чехи не трогали немцев, если только те не трогали их. Во имя каких же других национальных побуждений вожаки могли убедить народ поднять кровавое знамя восстания?… Во имя уравнения прав? – Но оно было уже осуществлено. Значит во имя преобладания чешской национальности? – Но мы уже знаем, что к юридическому преобладанию чешские патриоты не стремились, а что касается нравственного, то оно имело место. Двор был вполне чешский, высшее сословие, уже с половины XIV столетия, под влиянием соперничества с немецкими горожанами, было настроено патриотически, а в литературе идет такое сильное национальное течение, такая страстная приверженность во всему родному, которая послужила источником в неслыханному в средневековой жизни явлению, а именно – к замене латинского языка чешским не только в произведениях изящной словесности, но даже в специальных, богословских исследованиях. Если к этому присоединить преобладание в университете, то мы должны будем признать, что интеллектуально-нравственный мир Чехии в началу гусситско-таборитского движения был вполне свободен от иноплеменного стеснения.
Все эти соображения отнимают у нас всякое право считать гусситство национальным протестом, что, конечно, не мешает ему быть глубоко-национальным движением.
V
Перейдем теперь к тому факту, который действительно имел большое влияние на возникновение гусситско-таборитского движения – в развращенности римско-католического духовенства, к распущенности городского населения и высшего общества и, вообще, к той великой порче европейских нравов, против которой в Чехии раньше, чем во всех других странах Европы, раздались громовые слова целого ряда нравственных проповедников, подготовивших почву для евангельских принципов Таборской горы.
Соседство «цивилизованной» Германии обошлось Чехии не даром. Около половины XIII столетия мы уже наталкиваемся на грустные подробности растлевающего влияния средневековой погони за мишурным блеском. Высшее сословие, не имея правовых отличий от большинства народонаселения, обособляется роскошью и этим мало-помалу воздвигается стена между ним и народом, державшимся старославянской простоты.
«Многообразное столкновение с немцами, как дома, так и за границею, быстро ознакомляло чехов того времени с успехами просвещения, выходившими из западной Европы, а вместе с тем и с неизбежными (?) спутниками их – всякого рода тщеславием и роскошью. Ознакомившись с произведениями культуры соседних стран, которые вносились в страну благодаря более живым торговым оборотам, чешские дворяне и рыцари привыкли к блестящему и расточительному образу жизни. Вошло в обычай великолепное рыцарское одеяние, блестящие шлемы с пестрыми султанами, красивые панцири и щиты, отмеченные отличительными цветами родов, аксамитовые сукна, блещущие золотом, и вони, украшенные шелковыми попонами с драгоценными камнями и перлами. Рядом шли – шумный образ жизни в замках, пиры, игра в кости и другие пустые удовольствия, страсть к охотничьим забавам, большая пышность и мотовство. Во главе всего этого стоял двор короля Вячеслава (И-го), дававший всему тон. Здесь было великолепие, дотоле в государстве невиданное. Король, с ранних лет наклонный к роскоши, не щадил коронных доходов для того только, чтобы собрать около себя все, что могло способствовать роскошному образу жизни, по требованиям того времени. Его щедрость привлекала к пражскому двору иностранцев всякого рода: странствующих рыцарей, ознакомившихся с наилучшими способами придворных развлечений в чужих землях, фигляров, совершавших различные фокусы; любимых немецких певцов, забавлявших дворянское общество стихотворными песнями о любви и приключениях. Король Вячеслав и сам пробовал свои силы в сочинении немецких любовных песен по их примеру. Все роды празднеств, вся пышность мужских и женских одежд и всякое великолепие сосредоточивались на больших состязательных играх или турнирах, происходивших при дворе. Блюстителем в них всех тех правил, которые соблюдались и в иных землях, был немецкий рыцарь Ойирж из Фридберга, пришлец исчужа, особенный любимец короля Вячеслава. Для охотничьих забав король построил себе увеселительные охотничьи замки в королевских лесах, как, напр., небольшой замок Тыржов или Анорбах у Крживоклата»[65].
Центром развращенности становится Прага, которую нравственные проповедники того времени называют не иначе, как Вавилоном, великою блудницей, матерью разврата[66]. Народная нравственность возмущалась, тем более, что в распущенности этой народ был только негодующим зрителем. Прага была скорее немецким городом, чем чешским, что видно из того, что первый проповедник, поднявший голос против развращенности, был немец (Конрад Вальдгаузер), говоривший свои проповеди на немецком языке. Чешские же элементы Праги – высшее общество и духовенство – мало имели общего с большинством населения страны, которое отличалось в то время замечательною чистотой нравов. Как доказательство этой нравственной чистоты, могут служить сочинения Фомы Штатного, писателя очень резкого в порицании, который с величайшим уважением говорит о целомудренности чешского народа. Одно современное стихотворение, комментирующее десять заповедей, дойдя до седьмой, описывает ухищрения, какие должен был употребить дьявол, чтобы заставить молодую, прекрасную вдову… второй раз выйти замуж[67]. И рядом с этой простою жизнью в среде народной с каждым годом развивалась в городах, при дворе и в замках знатных господ «немецкая цивилизация», многие черты которой скорее, однако же, напоминали римский лупанарий. Кто вспомнит, что в средневековой Германии императоры торжественно, на пергаментных хартиях, благодарили магистраты некоторых городов за предоставление императорской свите дарового пользования публичными домами, тот поймет глубокое возмущение чешского народа, когда чешские короли стали населять свои земли немцами такого же миросозерцания, когда немецкие нравы широкой, растлевающею волной хлынули в Чехию и загрязнили её менее нравственно-чуткие элементы. И в довершение развернулась в бесстыдной наготе своей оргия монашествующего фарисейства, наглый разврат мнимых служителей Бога правды и справедливости.
Первое, что бросается в глаза, когда ближе присматриваешься к духовному элементу Чехии XIV и XV века, это – чрезвычайная многочисленность его. В то время, как даже теперь, после целых веков необузданного католического торжества, на 5 миллионов населения приходится 1 900 приходских костелов, – на гораздо меньшее число чехов при Карле IV приходилось 2 100[68], так что не даром этот главный виновник такого обилия костелов получил название «поповского короля». Сверх того, по всей стране было разбросано множество монастырей. В одной только Праге их было 18 мужск. и 7 женских. Персонал был чрезвычайно роскошный, о чем можно судить по тому, что при иных церквах состояло до 300 клириков[69].
И не одною только многочисленностью выделялось чешское духовенство. Имения духовенства, состоявшие как из земель, так низ ежегодной подати, наложенной на земли или на дома, были громадны. к одному архиепископству (Пражскому) принадлежало почти 900 сел и города: Рудница, Рошканы, Прибраш, Рожемиталь, Гершов, Тин, Тин-Бехинский, Мольдауский, Червонная-Речица, Степанов, Вискитна, Пельграмов, Брод-Чешский или Епископский, из которых некоторые равнялись величиной и благосостоянием королевским городам, а также замки: Хинов, Гералец, Кривсудов, Герштейн, Супигора. Кроме старинного дома в Пражском замке, епископы имели, еще со времени короля Вячеслава I, огромный двор епископский недалеко от моста, на Малой Пражской стороне; самым обыкновенным летним местопребыванием их была Рудница, крепость и город, который последний епископ, Ян II Дрожицкий, украсил роскошными зданиями и особенно крепким каменным мостом через быстро текущую Лабу (Эльбу). Архиепископ был окружен, кроме духовных сановников, блестящим двором чиновников, слуг и других мужей[70].
Богатства духовенства увеличивались с каждым годом, благодаря «набожности» чешских королей и в особенности Карла IV. Короли раздавали свои земли духовенству, которое в свою очередь раздавало их в аренду крестьянам. Таких крестьян в распоряжении духовенства было огромнейшее количество. Не только епископы, но даже приоры имели по 50 деревень. Бенедиктинский монастырь в Бревнове имел 1 000 марок (25 000 гульденов) ежегодного дохода с принадлежащих ему угодий.
Было бы утомительно перечислять все отдельные случаи богатства чешского духовенства. Достаточно припомнить слова Гусса, что больше четверти доходов всего королевства[71] попадало в руки патеров, – и всякие дальнейшие подробности становятся излишними.



