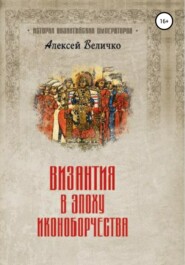
Полная версия:
Византия в эпоху иконоборчества
о своей принадлежности к Римской империи, считая одновременно с этим своим единственным защитником Римского епископа. Как справедливо отмечают, именно в эти годы светская власть апостолика в Италии приобрела реальные очертания95.
Когда в 731 г. на престол вступил папа Григорий III (731—741), казалось, что конфликт если и не будет окончательно устранен, то по крайней мере смягчится. Император благосклонно признал нового понтифика, всячески демонстрируя ему свое уважение, но папа направил Льву III такое гневное письмо, что кардинал, которого апостолик направил с посланием в Константинополь, отказался доставить его даже под угрозой низвержения из сана96.
Чтобы укрепить свои позиции, Григорий III собрал 1 ноября 731 г. Собор в Риме из 93 итальянских епископов, который анафематствовал иконоборцев. Хотя сам император не был отлучен от Церкви, этот факт означал отделение Италии от Римской империи и отказ признать власть Византийского царя. Правда, посланник с соборными актами не доехал до Константинополя: его, как и всех других ходатаев за иконы, император распорядился арестовывать по дороге в Сицилии и отказался вообще читать послания с непокорного Запада.
Двусмысленность политического статуса Рима и Италии хорошо подчеркивает факт приобретения папой Григорием III в 733 г. замка Галлезе в Тусции, выкупленного понтификом у лангобардов. Это владение было присоединено к Римской империи, как неотъемлемая часть ее территории, но папа смотрел на него как на свою вотчину. Как тонко заметил один исследователь, «папы оставляли неприкосновенными установления Римской империи, проявляя в этом величайшую мудрость; свою нарастающую власть в Риме папы маскировали искусными дипломатическими приемами»97.
Как ни старался Лев III, ему не удалось ни получить вселенского одобрения иконоборчества, ни умиротворить своих противников. Постепенно военные операции и повседневные заботы государственной жизни заняли его внимание, и до конца дней царь не решился более пытаться навязать новые запреты на почитание святых икон.
Скончался великий император, законодатель и полководец 18 июня 741 г. от водянки98. Сказать откровенно, с учетом всех обстоятельств, личность императора Льва III не может не вызывать сочувствия. Безусловно, иконоборчество являлось ошибкой и тяжелым грехом царя. Но, во-первых, он столько сделал для спасения православной империи, «христианского государства», дни которого, казалось, уже были сочтены, что заслуживает большого снисхождения. При всем блеске императорских династий Империи немного найдется царей, способных стать с ним в ряд по тем заслугам, которыми ему обязана Византия. Грандиозность его побед, острый ум, преданность войска и симпатии населения являются лучшими характеристиками личности императора Льва Исавра99.
Во-вторых, следует признать, что подавляющее большинство возводимых на него обвинений оказались надуманными или бездоказательными. Конечно, совершенно нелепо утверждение позднейших историков, будто император Лев III сжег церковное училище в Константинополе вместе с преподавателями, учениками и книгами. Царь был сторонником просвещения и, напротив, своих идейных противников считал не вполне образованными людьми. Поэтому он и его сын Константин V усиленно насаждали школы, в которых преподавали сторонники иконоборчества100.
Совершенная неправда, будто император бил по щекам патриарха св. Германа Константинопольского и публично унижал его. Греки издавна любили преувеличивать значение тех или иных событий, нередко перефантазируя историю, вследствие чего обыденные факты получали совершенно фантастичную интерпретацию. В древние времена сам по себе факт непринятия императором какой-то церковной партии неизменно классифицировался отверженными как «гонения» на Церковь. Поэтому не стоит удивляться, когда летописцы придумывают то или иное событие, чтобы еще более возвысить чей-то подвиг и продемонстрировать чьи-то заблуждения.
Как человек последовательный, Лев III, приняв ложь за истину, шел к поставленной цели, старательно и осторожно избегая возможных осложнений. Если случалось, что, «раздраженный противодействием, Лев позволял себе оказывать давление на чужую совесть, то нужно признать, что противники его тысячекратно отмстили ему за эту неправду, исказив историю его царствования. Благороднейший законодатель явился пред взорами потомков как самый низкий злодей», – писал один исследователь101.
В этих словах много правды, доказательства которой легко представила история. Когда в IX веке иконопочитание было восстановлено, составился список мучеников за Православие, пострадавших в годы гонений. И из их числа только 40 человек приходится на период царствования императора Льва III Исавра, причем большинство из них погибло во время известного эпизода на площади Халки102.
Нередко современники, а еще более потомки, категорично полагали, что после смерти император Лев III Исавр отправился в «огонь вечный», но, справедливо замечают некоторые авторы, суд Божий – не суд человеческий. Даже латиняне, в целом крайне негативно оценивавшие его образ, не отрицают очевидных достоинств императора. Один французский автор писал так: «Лев царствовал со славою. Подданные его любили, сарацины боялись; казалось, само Провидение поставило его на троне, чтобы возвратить Империи ее прежний блеск. Выросши в несчастии, которое дает твердую выдержку душам и воспитывает доблести, Лев достиг престола и держался на нем силой своего гения. Он был бы великим государем, если бы не захотел стать реформатором»103.
Другой западный автор отмечает, что с воцарением Льва III, словно по мановению волшебной палочки, наступил мир. «Трудно сказать, все ли реформы Льва III были равно плодотворными, но один факт неопровержим: его царствование было для Империи периодом такого процветания, какого она не видела много поколений»104.
II. Император Константин V (741—775)
Глава 1. Царь и узурпатор
Сыну покойного царя Константину V было 23 года от роду, когда он принял единоличные бразды правления Империей в свои руки. С ранних лет разделяя с отцом тяготы государственного управления и военные лишения во время многочисленных походов, он быстро приобрел богатый опыт правления государством и познал тонкости военного дела, не раз проявляя на полях сражений хладнокровие и мужество.
Между тем в дошедших до нас византийских источниках нет более ненавистного и презренного имени, что не может не вызывать удивления. И до Константина V, и после на императорском троне встречались слабые и даже откровенно преступные фигуры, как, например, узурпатор Фока Солдат. Но победившие через столетие иконопочитатели презрели все заслуги этого выдающего представителя Исаврийской династии и великого полководца, запомнив только, что при нем иконоборчество достигло своего первого пика.
Но «хрестоматийные» оценки сами нуждаются в значительной корректировке как по отношению к Константину V, так и Льву III. Обратим внимание на одно авторитетное мнение, которое нужно иметь в виду при обобщении трудов и характеристике личности этих монархов. «Для современного наблюдателя, – писал известный византинист, – проблемы иконоборчества оказались настолько непроницаемыми, и самый тот факт, что в течение целого столетия шла борьба не на живот, а на смерть из-за вопросов религиозного культа, оказался настолько непонятным, что вопреки всем свидетельствам источников иконоборчество было истолковано как социально-реформистское движение. Там, где материалы источников противоречили этому истолкованию, они отвергались с совершенным презрением. Там, где не оказывалось нужных элементов для этой конструкции, они измышлялись»105.
Остановимся на личности нашего героя. Рассказывают (и эта история может быть в такой же степени легендой, как и реальным фактом), будто сразу после его рождения были явлены негативные предзнаменования будущего царствования. Якобы при совершении таинства Крещения младенец Константин испражнился в святую купель и потому впоследствии получил крайне неблагозвучное прозвище «Копронимос». Понятно, что оно не нуждается в переводе106. Однако, по другим данным, это обидное наименование на самом деле является поздней перифразой подлинного народного «имени» царя – «Каваллинос» («кобылятник»)107. Проведя в седле большую часть своей жизни, царь не мог отделаться от постоянно сопровождавшего его запаха конского пота, что впоследствии использовали недруги.
Он был трижды женат, причем не по распущенности, а вследствие смерти первых жен. Первой супругой императора Константина V, как уже говорилось выше, была Хазарская царевна Ирина, с которой он венчался в 732 г. От Ирины родился 25 января 750 г. сын, будущий император Лев IV, и дочь св. Анфуса. Второй брак царя с некой Марией был очень скоротечен, и от него не осталось детей. От третьего брака царя с византийской аристократкой Евдокией (он дал ей титул августы только в 769 г.), происходящей из знатной семьи Мелиссинов, родилось пять сыновей: Никифор, Христофор, Никита, Анфим и Евдоким108. Как можно судить по отношениям, царившим между отцом и св. Анфусой, историю который мы поведаем позднее, император был добрым отцом, умевшим находить общий язык со своими детьми и не насиловавшим их волю.
Он был жестким правителем и не всегда щадил своих врагов – пример пленных болгарских воинов, которых царь отдал на растерзание константинопольской толпе, достаточно красноречив. Но нередко удивлял своим снисхождением к поверженным противникам, если не видел в них угрозы государству. Позднейшие летописцы-иконопочитатели называли его «беззаконнейшим царем», «всегубительным, безумным, кровожадным, лютейшим зверем», а в народе довлел культ этого императора. Когда уже много после его смерти болгары серьезно угрожали Римской империи, во время богослужения в храме Святых Апостолов народ сорвал с петель дверь в усыпальницу Константина V, ворвался туда и с криком: «Восстань и помоги гибнущему государству!» – припал к его гробнице109. Когда эпарх города задержал правонарушителей, те утверждали, что двери в усыпальницу отворились сами собой, Божьим провидением – настолько личность императора была популярна в народе110.
Через столетие, когда тема иконоборчества уже оказалась несостоятельной и Церковь сформировала учение о почитании святым иконам, при императорах Македонской династии, желавшим наглядно продемонстрировать ничтожество своих предшественников, тело Константина V было извлечено из гробницы. К великому изумлению всех присутствующих, оно оказалось не подверженным тлению! Хотя по царскому приказу его должны были облечь в новый саккос, но тот не подошел по размеру (очевидно, оказался маловат для габаритов императора-воина), и тогда тело предали огню111.
«Каковы бы ни были его личные слабости и пороки, – заключает один историк, – как бы ни была жестока его военная беспощадность, приписываемая ему противниками, во всяком случае, по силе, по политическому смыслу, по стратегическому дарованию и колоссальной энергии он принадлежал к самым выдающимся Византийским венценосцам. Он завершил работу своего отца и в глазах неприятеля вновь окружил свое царство внушительным сиянием, под покровом которого государство в ближайшие затем царствования могло без слишком больших повреждений лавировать среди опасностей. Несколько десятилетий Византия жила политическим капиталом, накопленным Львом III и Константином V»112.
Его называли более талантливым полководцем, чем его отец, чьи победы стали хрестоматийными. «Не спонтанная удаль, но острый ум дальновидного стратега, соединенный с большой личной отвагой, позволил ему одержать блестящие победы над арабами и болгарами, которые сделали его кумиром солдат»113.
Став по праву рождения царем, Константин V и не думал что-либо менять в политике и стратегии своего горячо любимого отца, которому он желал во всем следовать. В то время арабы по-прежнему представляли главную опасность для рубежей Римской империи, и против них он решил начать свой первый самостоятельный поход в июне 741 г.
Благодаря трудам Льва III государство было крепко, армия многочисленна, а власть заслуженно пользовалась авторитетом у подданных. И молодой царь не подозревал, что опасность уже совсем близка. Исходила она от самого ближайшего окружения василевса – зятя покойного Льва III Исавра Артавазда, женатого на его дочери Анне, номинально числившегося комитом и стратигом фемы Опсикия, а в действительности являвшегося куропалатом дворца. Два его сына также занимали высшие ступеньки в иерархии византийской системы управления: один из них был стратигом Фракисийской фемы, второй возглавлял фему в Малой Азии114.
Обязанный всем, что имел, покойному императору, Артавазд тем не менее считал себя единственным законным наследником Льва III, игнорируя династические права царевича Константина. В течение года наблюдая физическую слабость и болезнь царя, предвидя скорую смерть Льва Исавра, он плел паутину грандиозного заговора, в который оказались вовлечены многие видные сановники. В силу неведомых причин (хотя, скорее всего, заговор просто еще не был полностью подготовлен) заговорщики не посмели выступить непосредственно в дни скорби по покойному василевсу, но решили сделать это чуть позднее.
Когда Константин V с гвардией расположился лагерем во Фригии в местечке Красс, ожидая прихода остальных войск, «внезапно» взбунтовалась фема Опсикия, провозгласившая Артавазда императором. Царь повелел узурпатору явиться для объяснений, и тот действительно пошел навстречу своему монарху, но… вместе с войском. В короткой схватке погиб один из близких советников Константина V, служивший еще императору Льву III, патриций Висир, и император внезапно открыл для себя, что противопоставить узурпатору ему нечего. Будучи смелым и решительным, но в то же время очень осторожным человеком, император не стал искушать Бога и перебрался в расположенный неподалеку город Аморий – столицу фемы Анатолика, где у него было много сторонников. Этот город он сделал базой для будущих операций по восстановлению своей власти.
А узурпатор, посчитав партию молодого царя безнадежно проигранной, тем временем направился к Константинополю, где его уже ждали союзники – патриций и магистр Феофан, замещавший царя в государстве во время военного похода, и уже знакомый нам Константинопольский патриарх Анастасий. Их совместными усилиями был распущен слух среди столичных жителей, будто бы Константин V погиб, а все восточные фемы признали Артавазда, как близкого родственника последних императоров, царем. Нет ничего удивительного в том, что константинопольский обыватель поверил столь авторитетным свидетельствам, и вскоре Артавазд был венчан на царство патриархом Анастасием, презревшим и нравственный долг, и правила благочестия, и обычную признательность к своему покровителю, благодаря которому стал архипастырем столицы.
Чтобы окончательно уронить престиж молодого царя, о котором все же вскоре стало известно, что он жив и здоров, патриарх решился на совершенно недостойный поступок. Он поклялся на Кресте Господнем, что своими ушами слышал, будто Константин V отрицал Божество Христа как Сына Бога115. Конечно, такое заявление сыграло свою роль: как иначе, если сам патриарх назвал Константина Исавра несторианином? Впрочем, зная уже характер этого человека, а также иконоборческую аргументацию сына Льва Исавра, трудно поверить, что он в действительности являлся тайным еретиком.
Вскоре к Артавазду подошло подкрепление в виде войска Фракисийской фемы во главе с его сыном Никифором. Солдаты заняли крепостные стены Константинополя и своим видом отбивали любое желание восставать против нового «царя», даже после раскрытия обмана. А сам Артавазд щедро раздавал государственную казну народу, дабы снискать его благосклонность.
Первое время ничто не угрожало узурпатору и его сторонникам, но затем стали поступать тревожные слухи, свидетельствующие о том, что Константин V вовсе не намерен прекращать борьбу за императорскую диадему и пурпурную обувь. В память о его отце почти все фемы Малой Азии выступили на стороне законного царя, включая флотскую фему Кивириотты, сыгравшую в будущих событиях едва ли не решающую роль. Положение Артавазда сразу стало шатким, и, надеясь вернуть расположение населения и епископов, он пошел на то, чтобы отменить иконоборческие указы Льва III Исавра.
Нет никаких сомнений в том, что это было в буквальном смысле слова «пиаром». Ни Артавазд, ни патриарх Анастасий, ни остальные участники заговора не испытывали к иконам никакого расположения, тем более что сам Константинопольский архиерей взлетел на высший пьедестал духовной власти именно за счет своего иконоборчества. Однако этот расчет оказался не очень точным: то ли столичные жители не видели в церковной политике Льва Исавра никаких опасностей для свободы иконопочитания, то ли не поверили в праведность мотивов Артавазда, но новых союзников он не приобрел.
Тем временем Константин V со своим войском решительно подошел к Босфору и остановился в Хрисополе, но надвигающаяся зима не позволила ему штурмовать Константинополь. Он вновь отошел в Аморий, убедившись на деле, насколько одинок его противник. Эта временная передышка была использована Артаваздом довольно эффективно, хотя и не без ошибок. Пусть его не признавала Малая Азия, но Римский папа в благодарность за отмену иконоборческих эдиктов Льва Исавра посчитал его законным императором (!), о чем и уведомил письменно. Для упрочения власти Артавазд венчал на царство своего старшего сына Никифора, а второго сына, Никиту, назначил стратигом фемы Армениак, где у него, армянина, имелись сторонники из числа соотечественников116. Однако, как вскоре выяснилось, даже эти меры не смогли реально изменить перспектив будущей междоусобной войны, поскольку Артавазду противостоял воин величайшей отваги и полководец от Бога.
Весной 742 г. Константин V вновь подошел к Константинополю, и здесь открылись три крупных просчета узурпатора. Во-первых, он покинул город, отправившись в фему Опсикия, где неудачным управлением быстро восстановил против себя своих же недавних подданных. Во-вторых, Артавазд не сумел консолидировать свои силы, оказавшиеся разбросанными по стране. Наконец, в-третьих, он не обеспечил Константинополь запасами на случай осады – видимо, не ожидал, что дело может зайти так далеко. Но именно так и получилось.
В том же году при Сардах Константин Исавр нанес тяжелое поражение Артавазду, до сих пор не верившему, что «мальчишка» сможет разбить его, бывалого и опытного воина. Он спешно бежал в Константинополь, а император, не теряя времени, развернул свою армию, догнал сына Артавазда Никиту с армянским войском и в августе 742 г. разгромил его при городе Модрине, что находился в феме Вукеллариев. Несчастье для Артавазда заключалось в том, что хотя самому Никите удалось скрыться, в этой битве пали многие близкие советники и товарищи Артавазда, включая двоюродного брата узурпатора, патриция Тиридата117.
После этих побед Константин V переправился через Босфор и осадил город с суши; а стратиг фемы Фракисийская Сисиний во главе флота блокировал Константинополь с моря – столица оказалась в осаде. Вскоре в городе наступил настоящий голод, а попытки Артавазда раздобыть продовольствие и доставить его в Константинополь не приносили успеха. Флот Константина Исавра легко перехватывал суда противника, направляя захваченное продовольствие для нужд своей армии. Осажденные попытались произвести вылазку на сухопутном участке обороны города, но вновь неудачно: Артавазд опять потерпел поражение и лишился своего главного помощника магистра Феофана, павшего на поле брани.
Ввиду опасности голода Артавазд пошел на то, чтобы разрешить выход из Константинополя женщинам и детям, принудительно заставив все мужское население взять в руки оружие. Однако мужчины не желали воевать: многие из них, переодевшись в женское платье или монашескую одежду, пытались выскользнуть из осажденной столицы. Их ловили слуги Артавазда и направляли в строй, что не придавало авторитета узурпатору. Но бывшего помощника Льва Исавра согревала мысль о сыне Никите, который, по полученным сведениям, собрал новое войско и уже подошел к Хрисополю, желая деблокировать Константинополь. Однако Константин V и на этот раз разрушил все планы врага. Не снимая осады, он с частью войска внезапно переправился через пролив, догнал Никиту и вновь разгромил его, захватив сына Артавазда в плен вместе с бывшим епископом города Гангры Маркеллином, служащим в армии узурпатора.
Захваченные живые «трофеи» были представлены императором на обозрение всему городу, но Артавазд перенес и это страшное для себя известие. Оборона продолжалась, и только 2 ноября 742 г. царю удалось ворваться через сухопутную стену в город, из которого срочно бежали Артавазд и его ближайший помощник, тоже армянин, патрикий Вахтанг. Впрочем, далеко уйти им не удалось, и вскоре оба были представлены царю в цепях. Император не забыл патриарху Анастасию его измены и повелел подвергнуть того публичному бичеванию, провезти по ипподрому сидящим на осле задом наперед, а затем ослепить. Поразительнее всего то, что эта измена и унижения не привели к отставке архиерея, который вплоть до своей смерти в 754 г. оставался столичным патриархом118.
Это была великая победа в военном отношении. Константин смог совершить то, что 25 лет тому назад не удалось громадному воинству арабов. С малой толикой войск и в считаные месяцы император взял Константинополь, нанеся врагам несколько поражений.
Радость победы была несколько омрачена страшным мором, охватившим Константинополь, и удивительными явлениями. На одеждах людей, дверях, священных предметах в храмах появлялись изображения креста. Другим людям были видения, будто воины бьются друг с другом. Множество горожан умерло, и даже отсутствовала возможность вывезти их тела на кладбище. Поэтому придумали специальное механическое приспособление, позволяющее подбирать усопших, которых сбрасывали в ямы – так велико было их число119.
Желая пробудить в жителях надежду на лучшую долю, император Константин V озадачился восстановлением городского хозяйства, пришедшего местами в негодность. В частности, он лично пожертвовал на обустройство городского водопровода средства, позволившие привлечь 7 тысяч рабочих; и те за лето выполнили все работы. Вообще же, продолжая традицию отца, царь вел очень скромный образ жизни, направляя все полученные средства на содержание и обновление армии, а также на иные нужды Римского государства.
Глава 2. Победоносный император. Войны с арабами и болгарами
Восстановив свои права на царский трон, Константин V сумел продолжить дело отца, мечтавшего о возврате земель Римской империи, ранее захваченных арабами и болгарами. Надо сказать, время для войны с сарацинами было выбрано очень удачно, поскольку как раз в те годы в Халифате происходила междоусобная война между представителями династии Омейядов – настолько тяжелая, что мусульмане даже не имели возможности воспользоваться противостоянием Константина Исавра с Артаваздом.
Какой-то рок преследовал Омейядов со времени правления надменного и не очень подготовленного к своей миссии халифа Сулеймана. А затем сразу несколько обстоятельств наложились друг на друга, приведя к гибели эту некогда могущественную семью правителей Арабского халифата. Постоянные раздоры между йеменцами и кайситами, северянами и южанами, находившими своих покровителей среди родственников очередного халифа, краткость правления преемников Сулеймана, неизменно сопровождавшаяся сменой внутренней политики, когда в течение 26 лет фактическая власть 5 раз переходила от одной племенной группы к другой, вела к ожесточенным преследованиям и казням некогда самых влиятельных лиц в государстве. Кроме того, в своем сознании Омейяды принадлежали, скорее, к типу государственных деятелей, чем религиозных лидеров. Они заняли довольно умеренную позицию по отношению к лицам, стремящимся перейти в Ислам, но никогда не доходили до крайностей, присущих их противникам из среды сторонников покойного халифа Али, нашедших убежище на Ближнем Востоке.
Но еще бóльшие волнения ждали мусульманский мир при халифе Умаре II (717—720), который не только потерпел поражение от Льва Исавра, но и произвел некоторые перемены в стране, самым негативным образом сказавшиеся на репутации его семьи и состоянии дел в государстве. Будучи религиозным человеком (даже слишком религиозным на фоне своих предшественников), этот халиф решил устранить препятствия для иноверцев к переходу в Ислам, а потому отменил старый закон об обязательной уплате теми специального налога при смене веры. С одной стороны, это был предусмотрительный шаг, приведший в мир Ислама миллионы новых почитателей. Ведь обратная смена веры каралась смертью. Поэтому через 1—2 поколения новый мусульманин, желая того или нет, становился искренним и убежденным последователем пророка Мухаммеда.
Однако, с другой стороны, государственная казна сразу лишилась значительной части средств, источником которых был имено этот налог. Кроме того, желая сохранить старые законы, заповеданные пророком Мухаммедом, Умар II запретил мусульманам приобретать недвижимое имущество, за исключением того, что они присвоили себе ранее в ходе военных походов. Это вызвало вполне прогнозируемое недовольство арабов, посчитавших свои права нарушенными120.



