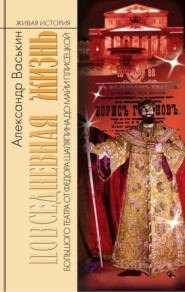
Полная версия:
Большой театр от Федора Шаляпина до Майи Плисецкой
Не все артисты Большого театра сумели протиснуться в вагон, немалая часть их осталась в Москве. Александр Пирогов, например, не смог выехать – у него тяжело заболела жена, а когда пошли разговоры, что он ждет немцев, певец был вынужден эвакуироваться, дабы избежать подозрений. Лемешев, ожидая посадки, сильно простудился на Казанском вокзале – ему не помогло даже то, что провожать его пришла Полина Жемчужина, жена Вячеслава Молотова, наркома иностранных дел (они дружили семьями, Лемешев с Молотовым были партнерами по преферансу). Впоследствии певец, пережив воспаление легких, все же смог покинуть город. И вот что занятно – проживая в эвакуации в Елабуге весной 1942 года, Лемешев старался побольше дышать чистым воздухом, для чего часто ездил в сосновый лес – так ему рекомендовали врачи. В лесу он любил репетировать, петь. Но у органов НКВД эти поездки знаменитого тенора вызвали серьезную обеспокоенность. Местные компетентные товарищи решили, что он шпион, а в лесу прячет радиопередатчик, по которому передает секретную информацию самому Гитлеру. И это не шутка – чекисты прочесали весь лес, но передатчика не нашли, только грибы да ягоды. К счастью, Лемешев вскоре покинул Елабугу, а затем вернулся в Москву.
А Иван Данилович Жадан на Казанский вокзал не поехал, устремившись совсем в ином направлении – на Запад, в поселок Манихино Истринского района, в дачный кооператив «Вокалист Большого театра» – излюбленное еще до войны место отдыха не только артистов главной сцены страны, но и остальной творческой интеллигенции Москвы. Здесь, на своих дачах, Жадан и его соседи дождались прихода немцев. Среди них были актер Малого театра заслуженный артист РСФСР Всеволод Блюменталь-Тамарин, бывший директор Вахтанговского театра Освальд Глазунов. К ним хотел примкнуть и популярный солист Всесоюзного радио Борис Дейнека, один из первых исполнителей песни «Широка страна моя родная» в сопровождении Ансамбля песни и пляски Московского военного округа. Но Дейнеку задержал военный патруль, причем, как утверждал его сосед Аркадий Ваксберг, вместе с белым роялем и другими личными вещами (неужели в Третьем рейхе не нашлось бы лишнего рояля?), певец был арестован и осужден на десять лет лагерей[31].
Долго ждать немцев не пришлось. В конце ноября фашисты заняли Истру, катастрофические для местных памятников архитектуры последствия их двухнедельной оккупации ощущаются до сих пор. Сам Жадан рассказывал так: «Манихино захватили немцы. Нас, солистов Большого театра, тогда там было много. Так вот, в мой дом, где вместе со мной тогда были концертмейстер, знавшая хорошо немецкий язык, баритон Волков и еще несколько артистов, вошел офицер. “Кто такие?” – сурово спросил он. “Артисты”, – пролепетала насмерть перепуганная пианистка. Офицер на минуту задумался, потом его лицо просветлело. “А Вагнера можете исполнить?” Волков утвердительно кивнул головой…»
Иван Жадан и его коллеги порадовали «освободителей» импровизированным концертом по случаю дня рождения одного из немецких офицеров. Конечно, трудно поверить в тот факт, что они оказались в этом месте и в это время случайно или вынужденно. Все всё прекрасно понимали. И не зря они и ушли вместе с фашистами. В дальнейшем их судьба сложилась соответственно. Блюменталь-Тамарин за активное сотрудничество с гитлеровцами был убит советским агентом Миклашевским в 1945 году. Глазунова арестовали в Риге органы Смерша в 1944 году, он умер в лагере в 1949-м. Лишь Жадан избежал ответственности и, перебравшись в США, продолжал сольную карьеру. На странный вопрос о том, почему он не вернулся в СССР, певец ответил: «Я не пострадал, мне было очень хорошо, я был материально всем обеспечен, но русский народ пострадал. А разве я не принадлежу к народу? Глаза-то у меня были, я видел все, что творилось».
Да, Жадан отнюдь не страдал при большевиках – имел квартиру в Брюсовом переулке и все полагающиеся привилегии, большими тиражами выходили его пластинки, постоянно транслировали его записи и по радио. Жадана не назовешь и совсем уж невыездным – в середине 1930-х годов его отпускали петь в Турцию и Латвию, не Америка, конечно, но всё же. За границей о нем писали как о первом русском теноре, успех был фантастическим, что и повлияло на дальнейшее сворачивание гастрольной деятельности певца: сбежит еще, пусть лучше у нас поет, перед рабочими и колхозниками (вредным с моральной точки зрения было и долгое пребывание советских граждан, кем бы они ни были, в капстранах с их товарным изобилием).
Слухи о произошедшем в Манихине дошли до Москвы довольно скоро, несмотря на то, что эта информация всячески скрывалась. В дневнике филолога Леонида Тимофеева читаем: «Я ел недавно собачью котлету. Она очень вкусная. В Москве очень много бездомных собак. Их доставляют в ветеринарные больницы, где убивают электротоком. Ветеринары употребляют их мясо в пищу и снабжают своих друзей. Один из них меня и угостил… Говорят, что в Истре на своих дачах остались наши артисты – Жадан, Редикульцев и другие – и уехали вместе с немцами. Такой же эпизод был в Ленинграде с Печковским. В Тарусе оставалось несколько знакомых наших знакомых. Они говорят о любезности немцев. Зверств не было, но многое они брали “на память” и просто так, хотя офицеры в то же время разговаривали об искусстве и прочем. Уходя, они говорили, что вернутся и что Москва будет обязательно ими взята».
После бегства Жадана (с женой и младшим сыном) его старший сын, призванный ранее на фронт, был репрессирован. После освобождения ему помогали с московской пропиской бывшие коллеги отца, в частности Вера Александровна Давыдова. С сыном Жадан встретился уже в 1992 году, когда приехал в Москву, вновь переступив порог Большого театра после стольких лет разлуки уже в качестве зрителя. Сын не держал на него обиды: «За что мне его упрекать? Покинуть родину его вынудили обстоятельства, которые никто не сможет объяснить. Разве он кого-то убивал, кого-то предавал? Нет, мне не в чем упрекнуть своего отца. Я горжусь им», – сказал он в интервью газете «Труд» в 1994 году. Жизнь певца была долгой – он прожил 92 года, успев дождаться исхода советской власти. Мог бы, наверное, и выступить на сцене Большого театра (а чем он хуже старика Рейзена?), да, видно, никто ему не предложил…
Интересно, что упомянутый Жаданом баритон Большого театра Александр Волков – не кто иной, как настоящий отец актрисы Вахтанговского театра Людмилы Максаковой. Об этом она не раз говорила в своих интервью. Уйдя с немцами, Волков впоследствии перебрался в Америку, где создал свою школу драматического и оперного искусства. В этой же компании – и бас Иннокентий Редикульцев, выступавший в Большом театре в 1931–1940 годах. При немцах он пел в Литве для местного населения. Погиб он в 1944 году сорока пяти лет от роду при весьма необычных обстоятельствах. Дело в том, что он был близок с митрополитом Виленским и Литовским Сергием (Воскресенским) – тем самым, что остался в оккупированной гитлеровцами Прибалтике. 29 апреля 1944 года машину Сергия, в которой ехал и Редикульцев с супругой, взорвали под Вильнюсом. Кто это сделал – до сих пор остается загадкой: то ли партизаны, то ли сами немцы, которым бывший советский митрополит уже поднадоел. Примечательно, что даже через много лет в своих воспоминаниях Иван Козловский писал о Редикульцеве как о героически погибшем «своем товарище», ставя его в ряд с певцом Александром Окаемовым, расстрелянным немцами.
Описанные случаи с известными деятелями советского искусства – не из ряда вон выходящие. Аналогичная ситуация сложилась, например, в жизни знаменитого оперного певца, народного артиста РСФСР, кавалера ордена Ленина Николая Печковского, выступавшего на оккупированных территориях. Ольга Форш рассказывала Всеволоду Иванову в январе 1943 года: «Был такой тенор, пел в “Евгении Онегине”. Напел много, построил дачу против меня (в поселке Карташовка. – А. В.). Глупый. Дача “ампир”, с колоннами. Он сидит на террасе, в джемпере, вышитом незабудками – мальчиков любил, они и вышивали. Вижу, возле террасы старушка варенье варит. Все едут мимо – и в восторге. “Ах, – ‘Евгений Онегин!’ ”… Немцы идут. Все мы уезжаем. А Печковский все сидит и сидит. – “Чего это он?” – “Да немцев, говорят, ждет”. Верно, немцев. Дождался. Он на советскую власть обижался: ордена не дает, потому что мальчиков любил. Поехал он в Киев. Выступал там с большим успехом. Решил – все в порядке, все устроено, на дачу возвращаться пора и – вернулся. А тем временем окрестные мужики все в партизаны ушли. Вот сидит он на даче, приходят мужики: “Пожалуйте в лес”. – “Чего?” – “Приговор надо исполнить”. – “Какой приговор?” – “Вынесли приговор мы, надо привести в исполнение”. Увели в лес, исполнили, – а бумагу об исполнении сюда прислали».
Находившиеся в Москве участники процитированного разговора не могли знать, что попытка партизан повесить Печковского не удалась, а вешать было за что – он слишком громко пел при немцах. Вот что писала о нем коллаборационистская газета «Речь» в сентябре 1942 года: «Артист Мариинского оперного театра Николай Константинович Печковский на днях дал в Пскове три концерта. Псковичи с нетерпением ждали знаменитого русского артиста и чрезвычайно были рады дорогому гостю, порадовавшему население своими прекрасными песнями. Печковский не пожелал следовать с красной ордой, вожди которой, несомненно, желали иметь при себе такого крупного деятеля искусства. “Я рад служить своему народу и его освободителям – германским воинам”, – говорит Николай Константинович». Судя по всему, говорил Печковский искренне.
Резонанс от его выступлений перед оккупантами был настолько большой, что голос певца услышали даже в Кремле. Попытка выкрасть и судить Печковского в назидание другим не удалась. Лишь в 1944 году сотрудники Смерша, наконец, арестовали артиста, трибунал дал ему десять лет лагерей. В Инте он руководил лагерной самодеятельностью. О смягчении участи певца хлопотал Иван Козловский, пославший ему в лагерь посылку с продуктами и деньги – две тысячи рублей. Нельзя сказать, что они дружили – Иван Семенович сделал это скорее из цеховой солидарности. А году в 1958-м Печковский вдруг объявился в Москве. Он решил вернуться на сцену, но не своего родного ленинградского Кировского театра, а сразу в Большой. Ну куда же еще стремиться человеку с такой пестрой биографией! Стреляный воробей, Печковский не придумал ничего лучше, как сразу обратиться к директору театра Михаилу Чулаки, позвонив ему по телефону: «С вами говорит Николай Печковский, если вы помните такого!» Ну как же его не помнить – пел из всех репродукторов в 1930-е годы, если только не из утюга. Печковский напросился на встречу.
Едва зайдя в кабинет директора Большого театра, Николай Константинович начал с места в карьер, рассказав, что он полностью реабилитирован – не хватает только документов, в получении которых он просит помочь Чулаки, что тот и сделал, позвонив куда надо. Уже на следующий день Печковский получил не только нужные бумаги, но даже орден Ленина, присвоенный ему в 1939 году. Директору и в голову не пришло, что это лишь начало: нацепив орден, певец обратился со следующей просьбой – взять его на работу в Большой театр, ведь теперь в свои 62 года он поет «еще лучше, чем в прошлые времена», к тому же все документы у него теперь на руках. «Вы пригласите меня спеть спектакль в качестве гастролера, вот и узнаете, каков я на сегодняшний день», – смело предложил Печковский. Оторопев от такой наглости, Чулаки все же заставил просителя немного сбавить пыл и продемонстрировать свой прекрасный голос на прослушивании. Но и тут Печковский выторговал себе привилегию: на прослушивании не должно быть «никаких Покровских, никаких Мелик-Пашаевых», а только лишь один аккомпаниатор Наум Вальтер (он числился при Всесоюзном радио и выступал вместе с Козловским, Лемешевым и многими «первачами»).
Как и следовало ожидать, та напористость, с которой орденоносец Печковский рвался в ряды артистов Большого театра, оказалась обратно пропорциональна уровню его пения, от которого ничего не осталось с той поры, когда он собирал полные залы. Тактичный Чулаки искал подходящие слова: «И вот мы идем с ним по пустынным переходам Большого театра, направляясь в сторону директорского кабинета, и я наконец решаюсь: “Николай Константинович! В памяти нескольких поколений вы занимали место в ряду наиболее выдающихся русских певцов нашего времени. И вы не имеете права снижать этот светлый образ, принадлежащий отечественной культуре. Вы не можете, не должны больше петь!” Сказал, и вновь мы печатаем шаги в гулком молчании спящего театра. И лишь на последнем марше лестницы, ведущей вверх, в мой кабинет, а вниз, на выход из театра, Печковский резко затормозил и отчеканил: “То, что вы сказали, – ужасно!” – и после некоторой паузы добавил: “Но я с вами не согласен”». Потерпев неудачу в Большом театре, Печковский уехал брать приступом Кировский театр, где его также постигло разочарование.
Но даже если бы случилось чудо и Печковский взял бы верхнюю ноту до, вряд ли его зачислили бы в труппу Большого театра, как раз в это время переживавшего непростые времена – на пенсию отправили бо́льшую часть совсем еще не старых любимцев публики. Большой театр – жестокий театр. Вслед за своим дирижером Головановым артисты первого положения получили напечатанные на тонкой папиросной бумаге приказы о их увольнении. Пришел такой конверт и Марии Максаковой, дочь которой Людмила запомнила, до какой степени это было «невероятно, неожиданно, жестоко и бесчеловечно», что ее мать тяжело заболела.
Увольнение из Большого театра – процесс болезненный независимо от того, как он проходит. Уходить не хочется никому, ни народному артисту, ни артисту из народа. Тем более что народных артистов все же меньше, чем всех остальных, и потому сопротивляются они отчаянно. Понять людей можно. Внезапно нарушается выработанный десятилетиями ритм повседневной жизни, да и какой жизни – крепко спаянной с судьбой лучшего в стране и в мире (как тогда надеялись многие) Большого театра, без которого уже невозможно себя представить. Им было что терять. После войны Сталин установил солистам Большого театра министерские оклады – по семь тысяч рублей в месяц при средней зарплате по стране 400 рублей (а в колхозах и вовсе за палочки спину гнули). За эти деньги народные артисты СССР должны были петь по пять спектаклей в месяц, а пели от силы два-три раза. Их повседневная жизнь сильно отличалась от жизни зрителей. Тот же Иван Семенович Козловский – сосед Максаковой – имел двухэтажную квартиру в доме Большого театра на улице Неждановой[32], машину, дачу, ни в чем не нуждаясь. Правда, за границу его не выпускали, на просьбу певца отправить его на гастроли в Европу Сталин возразил: «Вы где родились? В украинском селе Марьяновка? Вот туда и езжайте!» Но ему и так неплохо было, а точнее – незыблемо.
Все изменилось в 1953 году. Отсутствие в Кремле главного любителя опер и балетов, начало кукурузной кампании и полетов космических кораблей, бороздящих просторы Вселенной и унесших туда же (то есть в небо) и без того мизерные доходы простых советских тружеников, а также общая ревизия сталинского наследства как таковая – все это позволило наконец добраться и до неприкасаемых народных артистов. В газете «Правда» вышел фельетон Семена Нариньяни «На верхнем до», обличающий зажиточную жизнь хорошо устроившихся многолетних солистов Большого театра и их финансовые претензии. Фамилия этого фельетониста гремела тогда на весь Советский Союз. Своими публикациями он испортил жизнь многим известным людям – звездам кино и спорта (одна история со Стрельцовым чего стоит!). В те годы сила печатного слова была высока: раз фельетон напечатан, значит, во-первых, это правда, а во-вторых, это кому-то нужно и этот кто-то сидит очень высоко.
В фельетоне Нариньяни ловко обыгрывалась личность солиста Большого театра, обозначенного как герцог Мантуанский (из оперы «Риголетто») – или просто Мантуан Мантуанович, который требовал за свои выступления на гастролях по 25 (!) концертных ставок. В фельетоне называлась конкретная сумма – 126 тысяч за 14 выступлений в Минском оперном театре. Это было не много, а слишком много даже для Большого театра. Сталкиваясь с фантастическими запросами Мантуана Мантуановича, дирекции советских театров вынужденно повышали цены на билеты в два-три раза, не боясь, что они будут не раскуплены. И ведь раскупали все под чистую – так его любила публика. Такие штуки до 1917 года проделывал только Шаляпин. Но он-то пел для помещиков и капиталистов!
А ведь еще при Сталине Комитет по делам искусств издал приказ № 752, регламентировавший размер концертных ставок для артистов, распространявшийся в том числе и на Большой театр. Но в любом правиле есть исключения, было оно и в приказе – в специальном примечании говорилось, что ставки можно повышать в случае подготовки новой высокохудожественной программы, а также за поездки в отдаленные районы СССР. Этой лазейкой и воспользовался Мантуан Мантуанович, выступление которого в том же Минске оплачивалось по расценкам Чукотки. Автор фельетона взывал к совести Мантуана Мантуановича, приводя в пример его коллег по театру – Пирогова, Михайлова, Лисициана, Уланову, которые повышенных гонораров не требовали. А он – златолюбец такой, всегда долго и нудно торгуется перед каждым выступлением. Фельетон заканчивался призывом к Министерству культуры ударить по ветхозаветным и мелкособственническим инстинктам Мантуана Мантуановича.
Осведомленным читателям газеты было понятно, о ком идет речь, – о Козловском, крайне болезненно относившемся к критике, воспринимавшем ее как оскорбление. Еще в 1938 году в Большом театре случилась похожая ситуация – Иван Семенович прочитал о себе статью «Заносчивый тенор», придя в столь сильное расстройство, что никак не мог выйти на сцену. Начало оперы «Риголетто» (совпадение какое!) задержали на 45 минут. Вызванный на замену тенор также не стал петь, из солидарности. Спектакль оказался под угрозой отмены. Возмущенный главный дирижер и художественный руководитель театра Самосуд, не услышав от Козловского извинений, решил в качестве воспитательной меры уволить его, наткнувшись на сопротивление Комитета по делам искусств, где ссориться с любимцем Сталина не захотели. Тогда Самосуд просто отстранил певца от работы, поставив ультиматум: «Или я, или Козловский!» Но никто не мог взять на себя смелость уволить заносчивого тенора, советуя Самосуду: «А вы Молотову позвоните!» Главный дирижер не отважился беспокоить главу советского правительства по такому, казалось бы, пустяковому вопросу – и правильно сделал. У него в эти дни и без Большого театра хлопот хватало – предстояла поездка в Берлин, к Гитлеру.
Самосуду осталось лишь сетовать на собственную беспомощность: «Козловский зарабатывает по 85–90 тысяч рублей в месяц. Он у нас числится, жалованье получает, но не поет потому, что художественное руководство не пускает. В Большом театре есть такие, которые зарабатывают по 60–75 и 80 тысяч рублей, и в то же время есть балетные девушки, получающие 253–275 рублей в месяц. Им даже на чулки денег не хватает… И есть кучка стяжателей. Одни недовольны потому, что получают очень мало, а те недовольны, что им не дают возможности быть Рокфеллерами. Многие имеют машины, дачи. Они льют слезы о старом, потому что они имели бы дома каменные. Многие из них на пенсии. В императорских театрах были оклады по 50–60 тысяч золотом. Это считался придворный театр. Сейчас оклады небольшие – 12–16–18 тысяч. Тариф смешной: скажем, Рейзен в Ленинграде получает четыре тысячи рублей за спектакль. А у нас он получает 1200 рублей. Козловский получает четыре тысячи рублей за выход – где угодно ему девушки платят, а в театре он получает 1300 рублей за семь выступлений. 1300 рублей он платит своему шоферу». Самосуд не только не смог уволить Козловского, но и вынужден был выпустить его на сцену, когда на очередной спектакль приехал Сталин, а в афише фамилии любимого тенора вождя не обнаружилось. Ничего не брало заносчивого Ивана Семеновича.
Интересно читать и сравнивать свидетельства разных эпох, убеждающих нас в том, что времена меняются, а люди остаются прежними. Проблема, о которой шла речь в фельетоне, назрела в Большом театре давно, можно сказать, перезрела. Кирилл Кондрашин, на глазах которого все это развивалось, очень точно сформулировал диагноз, обозначив его как распад классического искусства в Большом театре. Выразилось это в том, что артисты-Рокфеллеры «потеряли чувство ответственности перед искусством», не желая даже репетировать в полную силу, работая «вполноги». Вельможные солисты настолько привыкли к курортным условиям труда в Большом театре, что отстаивали свое право петь два раза в неделю, а не пять. И их можно было понять: являясь гордостью советского народа, они старались всячески себя для этого народа беречь. Спевки на репетициях превратились в механическое отбивание такта и проверку партий: «Фактически всю работу с певцами передоверили концертмейстерам, которые готовили с певцами партию не дальше того, чтобы они знали ее приблизительно». В театре получил распространение так называемый грибок премьерства, как зараза расползавшийся по гримеркам и кулисам. С нежелающих работать «первачей» брали плохой пример артисты второго ряда, за ними – третьего. «Мы с Покровским были вынуждены в каждой новой постановке не занимать тех, кто работал с нами в предыдущей. Потому что наш опыт показывал: если человек получил свой кусок, то работал уже с неохотой. Случались исключения – Нэлепп, Михайлов, ряд добросовестных принципиальных художников, с которыми всегда работать было одно удовольствие – таких было мало, к сожалению…» – с горечью говорил Кондрашин в эмиграции. Негативную роль играла и безнаказанность, усугублявшая моральную сторону проблемы: в своем театре они поют через силу, а за его пределами стараются как стахановцы.
Свою печаль и обиду на фельетон «На верхнем до» и его автора Иван Семенович принес в кабинет директора Большого театра, потребовав, чтобы его защитили от возмутительных нападок. Но времена на дворе стояли другие, театр не пожелал заступаться, тогда Козловский отказался выходить на сцену в очередной раз. Тут и нашла коса на камень – администрация театра как раз в это время решила призвать солистов работать, как положено. Возникло даже некоторое противостояние между кардиналом (директором) и мушкетерами (так прозвали в театре отважных певцов-стяжателей). Народные артисты, отражая очередной выпад дирекции, утверждали, что получаемая ими зарплата должна соответствовать уровню дохода их коллег в ведущих театрах мира, например в Ла Скала или Гранд-опера. Мечтать не вредно…
Тогдашний директор театра (в 1951–1955 годах) Александр Анисимов пошел ва-банк, решив наказать мушкетеров рублем: придя 20-го числа за окладом, они увидели в ведомости не привычную сумму с тремя нулями, а ее сильно урезанный вариант. Народным артистам начислили зарплату ровно за то количество спектаклей, в которых они изволили петь, – за два, а не за пять, то есть получили они на руки лишь 40 процентов от причитающегося им. В ответ обиженные примы и премьеры пожаловались наверх, откуда раздалась гроза: директору велели немедля извиниться перед лауреатами Сталинских премий и чуть ли не лично вручить им зарплату в полном объеме, уподобляясь Юродивому из «Бориса Годунова» (только с тем условием, что Юродивый должен был не просить копеечку, а уговаривать взять ее). Звонок поступил чуть ли не из приемной самого Георгия Маленкова, короткое время пребывания которого на посту советского премьера осталось в поговорке «Пришел Маленков – поели блинков!».
Однако вскоре посягнувшего на святое директора сняли (вместе с Маленковым!), и уже его сменщик Михаил Чулаки, не связанный ранее данными обязательствами, сумел не только поставить строптивых певцов на место, но и отправить их на заслуженный отдых. Из театра, правда, их никто не выгонял – выведя сталинских лауреатов за штат, им предложили стать приглашенными певцами, работать по контракту – до трех раз в месяц, а платить им теперь будут конкретно за каждую исполненную партию в зависимости от ее сложности. Разумно. Но мушкетеры посчитали для себя новые условия оплаты унизительными, на собраниях своего штаба в Брюсовом переулке (где они все и жили) певцы-пенсионеры решили добиваться самых высоких ставок. В ответ дирекция предложила – спойте в ближайших операх свои коронные партии, а оплата будет по низшему разряду, ведь роли-то небольшие, а там посмотрим! В частности, в спектакле «Садко» это были партии Варяжского и Индийского гостей. Так постепенно народные артисты втянулись в работу на новых условиях: в конце концов, надо дорожить тем, что еще зовут. Лишь один человек заартачился, проявив свой заносчивый характер, он-то и был лидером этого «мушкетерского» движения. Кто это? Нетрудно догадаться – Мантуан Мантуанович, то есть извините, Иван Семенович Козловский. Все его коллеги-пенсионеры позже выступали в спектаклях театра – и Рейзен, и Лемешев, лишь он один лишил публику такой радости, проявив неуступчивость. Хотя на сцену Большого он все же выходил – во время всевозможных юбилейных торжеств, в том числе и в честь себя любимого, когда Козловский появлялся перед народом в своей неизменной белой пилотке, принадлежавшей когда-то Джавахарлалу Неру. Иван Семенович полагал, что пилотка – залог долголетия, что и подтвердил на собственном опыте, прожив 93 года.



