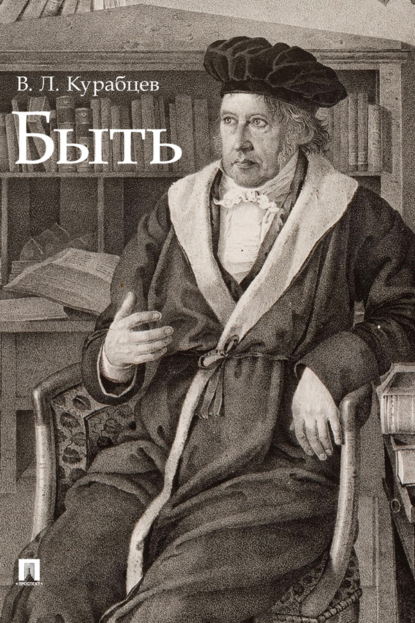
Полная версия:
Быть. Монография
Не отсюда ли и восторженное восприятие революционной Франции и Наполеона? Он писал: «Я видел, как император – душа мира – выезжает из города… Озирает весь мир и повелевает им». Это – «необычайный человек, которым нельзя не восхищаться» [24, 221–222, цит. Гегеля]. Кроме того, Франция после революции достигла настоящего национального единства, которым не обладала Германия.
Гегель в этом стремлении к свободе не был чужд искренней экзальтации и энтузиазма – говорил об «омоложении» абсолютной идеи (французские события, открытия Канта) [24, 80]. Верил, что «революционная и наполеоновская Франция – пример и наука. <…> Германия, благодаря глубинам своего духа, добьется большего, чем учитель» [24, 244]. И тут можно предположить, что Гегель угадал национально-патриотические чаяния немецкого народа еще в первой половине XIX века. Это националистическая жажда расцвета немецкой нации, всемирного взлета Германии, явления немецкого «Наполеона». Есть перекличка и с иудейским ожиданием Мешуаха. С тем только исключением, что в ХХ веке «Наполеон» Германии, к несчастью для Германии, Франции, России, Англии, США и почти всего мира, явился.
Этот взлет Германии (а Гегель ее называет единственной достойной преемницей античной и всей постантичной философии) требовал от немецких философов и ученых «дерзновения в поисках истины» и «веры в могущество разума» как «первого условия философских занятий» [18, 83]. Первый шаг, в понимании Гегеля, был сделан Иммануилом Кантом. Одного из своих законных сыновей Гегель назвал «Иммануилом».
Но возвратимся к Stiftу. Молодые штифтлеры «вместе пили и пели в трактирах, заигрывали с барышнями, устраивали мальчишеские забавы» [24, 71]. Девизами лета у Гегеля были то «вино», то «любовь». Но и отлично учились – изучали Св. Писание, различные науки, древние языки – «еврейский, греческий, латинский» [24, 64]. Д'Онт пишет, что Гегелю «запаса цитат из Писания …хватит на все случаи жизни» [24, 64].
После двух лет обучения в Штифте Гегель стал магистром философии; а после трех лет – «кандидатом по теологии» [24, 90].
Е. Аменицкая в предисловии к «Феноменологии духа» (1913) приводит девиз Гегеля: «Стремитесь к солнцу, друзья, чтобы быстро созрело счастье человеческого рода. Если вы, прорываясь к солнцу, утомились, и то хорошо! Тем лучше будете спать!» (из Hippel, 1781) [2, V]. То есть это зов к прогрессу, к разуму, счастью всего человечества. Маркс и российские большевики с очевидностью тоже жили этой идеей.
Идейно-духовная революционность молодого Гегеля контрастировала с внешней прозаичностью, причем в такой степени, что даже близкие люди оставались обманутыми или хотели быть обманутыми. В гимназии он слыл истинно «благоразумным юношей». А его товарищи по Штифту видели его прежде всего середнячком. Гельдерлин вспоминал о нем так: «Человек со спокойным прозаическим рассудком». Шеллинг тоже отзывался аналогично: «Чистый образец внутренней и внешней прозы» [2, XIII]. То есть дух Гегеля, величие его мыслей и личности «было скрыто от глаз современников» [2, XIII]. И можно предположить, что Гельдерлин и Шеллинг по каким-то причинам не слишком любили и уважали своего гениального товарища. И хотели, чтобы он был именно середнячком.
Впрочем, заурядность философа была не совсем надуманной: это просто другая сторона его личности и жизни (его «обыденка» и частично «социалка»). Она проявилась даже в его творчестве – предназначенном почти для всех и понятном для всех, например, в работе «Кто мыслит абстрактно». В общем-то, любой человек имеет отношение к обыденности.
Заурядную сторону своей личности и жизни Гегель открывал порой слишком очевидно: «Я достиг… цели моего земного существования, ибо, если у тебя есть работа и хорошая жена, у тебя есть все, что нужно иметь в этом мире. Эти две вещи – главное из того, что следует стараться заполучить» [24, 259–260]. Это – главы жизни (работа и хорошая жена), а параграфы дальше дописываются. И ни слова про веру в Бога, жажду спасения, любовь, творчество, милосердие и другое! Здесь к тому же Гегель – анти-Платон, или Платон позднего периода творчества.
После пяти лет отличной учебы в Тюбингенской духовной семинарии он стал пастором. Но служить пастором не пожелал (потому что реальная церковь «предает „божественное начало“» [24, 92]. В письме к Шеллингу он написал: «Да приидет царствие Божие, и да приложим мы к этому руку. <…> Разум и свобода – по-прежнему наш девиз, и Невидимая церковь остается для нас общим домом» [24, 120]. Согласно Жаку Д'Онту, «Невидимая церковь – это франкмасонство» [24, 121]. Однако тот же биограф неоднократно высказывал сомнения во франкмасонстве Гегеля.
Впрочем, вероятность того, что Гегель, как и доподлинно Фихте, был франкмасоном, не опровергнута. А Жак Д'Онт позволял себе шутить по этому поводу: Гегель – «сомнительный христианин, разоблаченный франкмасон» [24, 29]. Но, с другой стороны, Д'Онт не сомневался, что «религиозные вопросы казались ему наиважнейшими» [24, 320].
Отказ от пасторского служения лишал философа определенного заработка и стабильности. Ему пришлось зарабатывать в разных местах Европы в качестве домашнего учителя. Гегель долгие годы существовал в явной бедности, «постоянно сидел без гроша в кармане» [24, 255]. А когда он нашел в Нюрнберге невесту и получил королевское разрешение на женитьбу, то с горечью написал: «Ведь у меня нет главного, а именно, денег» [24, 260]. Возможно, что эти материальные трудности тоже стимулировали его великое творчество.
Кроме того, он, будучи домашним учителем, часто испытывал неприятные чувства. «Жил среди слуг» невысокого ранга и ощущал это «как одну из форм рабства» [24, 96]. К тому же лакеи, замечая его необычность, скорее всего, его унижали. Он «всегда видел у лакеев одно лишь неоправданное „самомнение“» [24, 103].
А после успешного, казалось бы, переезда в Йену, город Гете, Шиллера, немецких романтиков, он тоже не ощутил вкуса свободы и не поправил своего материального положения. Здесь он столкнулся с университетским «звериным царством духа» [24, 194, цит. Гегеля]. Таким было соперничество йенских преподавателей. В Йенском университете ему пришлось, вероятно, ради ученой степени, защитить несовершенную, с «незнанием и легкомыслием» [24, 196], докторскую диссертацию о планетах. В ней Гегель поддается неуважаемым им «философам-эмпиристам», но становится доктором земной мудрости – Doctor des Weltweisheit.
Впрочем, он давно уже привык к чувству несвободы и несправедливости. В родном Штутгарте герцог-тиран отличался самоуправством, распущенностью и оргиями. А в Швейцарии, в Бернском кантоне, Гегель увидел нечто более ужасное: «Ни в одной другой стране не вешают, не колесуют, не обезглавливают, не сжигают на медленном огне столько народу, сколько в этом кантоне» [24, 107, цит. Гегеля].
В Йене Гегель трудился под покровительством своего друга и соперника Шеллинга. И только в 1803 году, когда Шеллинг покинул Йену, Гегель почувствовал свободу. Он сблизился с великим поэтом Гете. Начал преподавать «Систему спекулятивной философии» и разрабатывать «непостижимые понятия» [24, 193, цит. Гегеля] своей диалектики. В 1805 году Гегель стал «экстраординарным профессором» в Йенском университете, но без официальной зарплаты, а всего лишь за вознаграждение от студентов [24, 215]. Только с 1806 года, благодаря заботам Гете, он начинает получать небольшой, но стабильный доход – сто талеров в год. И в это же время оканчивает свою великую книгу «Феноменология духа», Phänomenologie des Geistes (1807). Феноменология Гегеля – это «Одиссея духа» теоретического человека. От сознания к самосознанию и к философскому разуму. Согласно Е. Аменицкой феноменология оказалась «философской автобиографией» Гегеля [2, XIII].
В это время к Йене подошли войска наступающего Наполеона – армия Ланна. Жилище Гегеля было разграблено, деньги закончились, а квартирная хозяйка и сожительница Гегеля оказалась беременной. У женщины к тому же были и свои дети. Гегель, вероятно, ее не любил и называл «матерью моего ребенка» [24, 227]. В 1807 году у Гегеля появляется внебрачный сын Луи (Людвиг), о котором Гете написал так:
Дитя, я видел, как ты идешь Доверчиво навстречу миру. И что бы ни сулило грядущее, Утешься, взгляд друга тебя благословил [24, 223].
К тому же Гегель проиграл в борьбе за преподавательское место в Йенском университете. Лекции преподавателя Фриза были признаны более понятными и легче усваиваемыми. Гегелю помог добрый друг, тоже выпускник Тюбингенской семинарии, крупный чиновник Нитхаммер. Он раздобыл для Гегеля место в Бамберге – должность редактора «Бамбергской газеты», die Bamberger Zeitung, где Гегель и работал в 1807–1808 годах [24, 241].
Однако вскоре, уже в 1808 году, Нитхаммер возвратил своего протеже к философии: он выхлопотал для Гегеля «место преподавателя „подготовительных к философии дисциплин“ и… „ректора“ Нюрнбергской гимназии (лицея)» [24, 250]. А Гегель, вероятно, в том числе в знак благодарности, написал Нитхаммеру в 1816 году: «Наша церковь – это наши школы и университеты» [24, 253].
Вкус свободы и явной жизненной победы стал для Гегеля гораздо ощутимее только после получения некоторого наследства от отца, удачной женитьбы в 1811 году на бедной аристократке Марии фон Тухер из Нюрнберга и выхода на должность профессора в Берлинском университете (1818) с высоким доходом в две тысячи талеров.
Девушка была «молода, красива и знатна» [24, 257]. Гегель был старше примерно на двадцать лет. К Марии он испытывал согласно Д'Онту «привязанность, глубокую, спокойную, осознанную, отнюдь не исключавшую искренней нежности» [24, 259]. «Супруги были счастливы до конца, насколько нам известно» [24, 259]. У них родились два сына. А в трудах Гегеля можно встретить такую мысль: «Супружество по существу своему есть религиозный союз» [24, 259].
Наконец-то де-юре стало полновесно де-факто, и не только в философском мышлении: я «знаю себя в конечности бесконечным, всеобщим и свободным». Примечание. Личность начинается только здесь [24, 94]. Личность Гегеля, получается, вышла из полутьмы лишь после сорока лет, достигнув акмэ в пятьдесят-шестьдесят лет.
Особое место в судьбе Гегеля сыграл его внебрачный сын Луи (Людвиг). Мальчик прожил несчастную жизнь, хотя отец, согласно Д'Онту, заботился о нем и хотел ему счастья. После смерти матери он попал в детдом. В десять лет он был принят в семью Гегеля, но законные сыновья – Карл и Иммануил – его не признавали. Мальчик тянулся к медицине, а отец принуждал его учиться на торгового служащего. Он «не преуспевал» ни в чем. Луи к тому же, по мнению Д'Онта, всегда «недоставало теплого отношения» [24, 230]. Думал ли и заботился ли о нем Гегель, как полагает Д'Онт? Некоторые исследователи говорят о Луи, как о «глубокой занозе в сердце» Гегеля. Что это означает? Скорее всего, мальчик не пришелся ни ко «двору» Гегеля, ни ко двору его семьи.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Ильин И. А. Собр. соч. Аксиомы религиозного опыта. Исследование. Т. II. М.: Русская Книга, 2003. 608 с. С. 285.
2
Там же. С. 289.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

