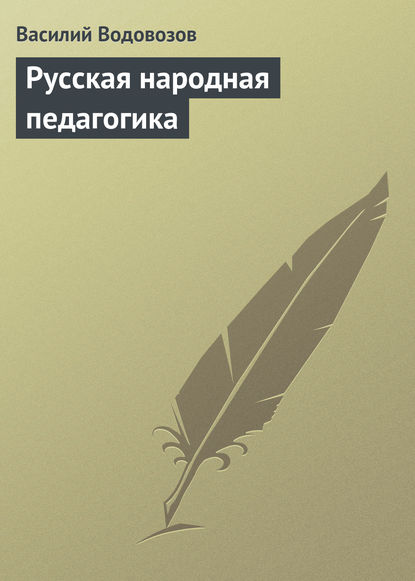 Полная версия
Полная версияРусская народная педагогика
Лучшая повесть, по нашему мнению, «Посестра Танька». Мысль ее прекрасная: придать человечные черты всеми презренной, павшей женщине. Солдат уходит из деревни и прощается со своей старой зазнобушкой, Марьею, у которой жил в избе. Осталась после него и дочь Танька – хорошенькая, бойкая девочка. «Прощай, Марья» Климовна! – говорит старый Калина – вековечное спасибо вам за дружество ваше! Прощай, Танюша моя! – низко поклонился он: – «Бог с вами!» Некому было теперь защищать сирот: один Трофим Калинович, племяш Калины, молодой, смирный солдатик из любви к своему бывшему дядьке посещал их и приносил иногда и целковничек; ему помогал брат, за которого пошел он в солдаты. Ветхая избушка Марьи чуть лепилась над обрывом, «покуривая синим дымком из черного бездонного горшка вместо трубы», но в окошечко высовывалась хорошенькая головка детская и посмеивалась «так звонко, как жаворонок поет в поднебесье». Калина Захарыч, когда жил в деревне, думал поправить избу, да это ему не удалось, потому что до рекрутства был он садовником: за избенкой Марьиной и разрастались три яблоньки хорошие, было смородины три-четыре куста, да одна грядка редьки черной. Тысяцкий без Марьиной редьки и в баню не ходил; вытрется на полке и загогочет: «Слышно, что солдатского завода – до крови ест, шельма!» Тут вырастала Танька: «Округлились и пополнились ея тонкие плечи; шире и раструбистее падали из-под пояска складки сарафанишка худого, и повыше вздувалась на груди сорочка складочками, а коса – и куда ушла ниже пояса». Заглядывалась на нее удалая молодежь и «отворачивались, словно вожжой дернутые тугомордые кони, молодицы гордые, покачивая своими жемчужными грушами в ушах и сверкая, как изморозью, богатыми поднизями». Девушка полюбилась сыну Федосея Болта, брата тысяцкого, стал он ее сманивать словами хорошими, а бабы на селе проведали про их тайную любовь, и «скоро дозвонился звон бабьими языками до ушей батькиных». Федосей и поучил сына ремнем: об этом на селе сказывали матушки, «с причитанием на деток глядючи: вот бы и вас, мол, так!»
Старик поспешил найти молодцу богатую невесту, мигом сыграли свадьбу. Во время венчания в церкви позади всех стояла, потупившись, и Таня, в стареньком, крашенинном сарафанишке. Кончился обряд, нищие проталкивались локтями, и девушка не заметила, как толпа выперла ее вперед. «В эту минуту вышел из церкви тысяцкий; обвел довольным взглядом журчащий народ, поклонился во все стороны, отвечая на поздравления, и вдруг нахмурился, скорежился весь. Ткнул он в карман своей синей сибирки руку, выдернул ее с полной горстью меди мелкой: «Прими Христа ради!» сказал громко и сунул насильно в руки Таньке деньги, повернул ее за плечо, толконул и прорычал: «Прочь, разлучница!» Танька аж скакнула с паперти от толчка, медь просыпалась по полу, и нищие бросились к ногам людей подбирать гроши».
Вот первая обида, которая ожесточила Таню. «За что ж, добрые люди, – думала она, – за что ж вы обесчестили меня, оплевали меня бедную, покорную?.. Аль кому-нибудь на всем свете белом досадила я, аль хотела от вас ваших парчей да золота? Али ровней вам себя ставила?..» Гордая думка запала ей в сердце; в одну ночь поумнела девка. А тут случилось, что когда свадебный поезд возвращался домой, кони зафыркали, остановились у ворот, воробышек зачирикал над крыльцом. День, другой прошел, молодые что-то не веселы. Старый Федосей задыхался от злости; пьяный, пошел он к избушке Марьи, кричит: «Изведу, на дым пущу… задушу, сволочь солдатская!» Насилу удержали старика. А Таня вышла на крыльцо, «сверкнула, как зарницей, глазами и показала зубки белые: «Ой-ли?» – звонко пропела, улыбнувшись, и избоченилась: «А вот только бровью поведу, так ты своих законов и хоромов и щепок не сыщешь, слышь, ты! Все пойдет прахом по ветру!» Так, «выглянул востер ноготок у пташечки». Марья все более хирела и скоро умерла; Таня осталась одна жить с кривой теткою. К ним стала похаживать бабуся-приятельница, сманивала их на праздники в ближайшие села, а раз увела и подальше, за 20 верст. Тут угощались они у знакомой бабуси вместе с другой девушкой, Оринушкой, пили медок, и сладкой, и забористый: видно хмелинки попало туда маленечко, то есть порядочно. «А как смерклось совсем, так и не заметила наша Танюша, как и когда она перешла, на крыльях что ли пролетела, через улицу; каким таким побытом, очутилась в красной горенке; и сидит за столом по-благородному, и в накладочку чаек попивает. Усач в архалуке ситцевом на подносе стаканчики и сласти разносит под самый нос, чинно и пресерьезно так, как будто важную службу вершит. Сам хозяин в халате бухарском, узористом, в ермолочке, шитой цветным бисером, с чубучищем в полсажени косой – только потчует, улыбается: то плечо, то перехват, то коленочко гостье чуть тронет очень ласково. Бабуси пьют, кушают, зубки поскаливают. Оринушка (девушка хорошая, как говорит автор) пьет, поет, с хозяином заигрывает: «Ох-ти, ты охочь, барин!», видно, лес соколу не диво! А Танька бедная ничего не помнит, глядит на все, как через дождик частый: страшно ей и томно, и бежала бы, и повалилась бы, и ходенем ходят кругом нее стены, люди, стаканы. Вот-вот заплакать ей хочется; дрожит и колотится сердце у нее, как пташка в силках, и бьет в лицо стыд краской: «Пустите, пустите!» – молится она. – «Последний стаканчик выпей, душенька!» – упрашивает ласковый хозяин, а строгий усач как-тут вырос с подносом своим. «Ну, выпей, девка, последний-то!» – кричит Ориша. «Потешь барина, выпей на последях!» – уговаривает тетка родная. Выпила. Танька, чуть покачнулася и сунулась на мягкий диван, а голова на грудь так и падает. Еще раза два порывалась девка привстать: подняла тяжелые брови, хлопнула сонными глазами и – захрапела. «Ну, вы-того, убирайтесь-ко!» – с приятной улыбкой молвил остальным гостям хозяин и, подняв высоко свечу, выпроваживал их поскорей». На четвертые сутки, ночью вернулась домой Танька с теткой – уж в саночках, на рысачке – вот как наши!.. Тетка вылезла из саней с каким-то узлом, за ней Танька. «Прощай, барышня!» – сказал кучер; а рысак только хвостом махнул – прощайте, мол, только и видели!»
Мы с намерением пересказали поподробнее начало повести, приводя местами из нее отрывки, чтоб читатели могли видеть и ее идею и манеру рассказа. Так же живо описывает автор страдания Тани, когда она вернулась домой. Она швырнула в лицо тетке подарки и пошла на заработки; несколько раз заглядывала знакомая бабуся, да и убиралась назад с худым словом. Но вот у Тани родился ребенок. «Сынка Бог дал!» – поздравляла родильницу косая тетка. «Чтоб его леший взял и с тобой вместе!» – стоная, ответила на поздравление Танька. В помешательстве она хочет загубить ребенка в лесу, как тут кстати является Трофим Калиныч и спасает ее от преступления; сына в память деда окрестили Калиной. На крестинах были все усатые гости. Рос Калинушка в беде, мать к нему привыкла, но не любила его, звала татарином и за большую ласку скажет: «Татарчонок мой». Увеличилась горькая нужда, Таню снова стали подманивать знакомые бабуси, и стала она пропадать по неделям. «Пошла битка в кон!» – сказал, махнув рукой, Трофим Калиныч. У Тани явились деньги, но она не жалела их, всем раздавала в деревне, кто ни попросит, а особенно добра была к солдатам: каждого угостит, ссудит хоть полтинничком на обзаведение, и полюбили ее солдаты. «Вон наша лебедь плывет, белая, посестра Танюшка», – подмигивая, говорили они, ее завидя, а лебедь тем часом и не весть в каких водах плавает. Обрушилась избенка Тани, мигом подъехали подводы с бревнами, с камнем булыжным: строители все были в штанах с кантами и в форменных фуражках. Построение новой избы – одно из самых поэтических мест в повести г-на Погосского. В новом теремке Таньки завелись пиры. «В неуказанное время валит, бывало, густой дым из трубы, а в освещенных окошечках виднеются все разные лица и разная амуниция: то сверкнет плечо золотом, ино борода полокна заслонит, а случалось, торчит, упершись в стекло, как мышиный хвостик, и грешная косичка». Один старик, кавалер «полувзводный», так отозвался о Тане: «Э-эх, неистомная! Беспардонная!» Но вот, стала уж стареться посеструшка, полк ушел в поход: «Прощайте, братцы мои названные! путь-дорога вам, други сердечные, не поминайте лихом Таньку вашу!» – «Прощай, родимая! спасибо за все про все, красавица! Век не позабудем нашей посеструшки!» – раздавалось из удаляющегося фронта, и Таня заплакала горько. Трофим Калиныч также отправился с другими. Осиротела Таня; сын ее рос без присмотра удалым сорванцом, но, неизвестно как, в нем оказалось доброе сердце: пошел он в рекруты за своего приятеля. А тут сгорели и хоромы Тани: справляли тут пьяные бабы именины хозяйки и на ночь в сенях заронили искру – все пошло прахом. Танька стала ходить нищенкой по божьим церквам, просить милостыни. Но Трофим Калиныч вернулся калекой из похода и встретил ее у церкви. Конец концов тот, что Татьяна, как и надо было ожидать, под старость с ним повенчалась. Впрочем, автор обставляет эту романтическую развязку довольно живыми, натуральными сценами. «Когда, по окончании обряда, Калиныч принял от священника руку жены, обернулся к народу и поклонился на все стороны, то все отдали поклон приветно, поздравили их радушно, и ни на одном лице уже не было усмешки лукавой. Подняла Татьяна голову, робко глянула на честной народ, поклонилась, и честной народ отдал ей поклон, как сестре своей, поклонился в пояс. И вся затрепетала она, поглядела на друга доброго, на своего почтенного мужа: «Это ты, калека, своей силой честной поднял меня, с прахом смешанную», – подумала – и, как ни сдерживалась она, но в три ручья хлынули ее горячие слезы. Зажили Трофим и Татьяна ничем не хуже других, а тут кстати пришел из-под Севастополя и Калинушка с георгиевским крестом на груди.
Может быть, некоторым покажется странным встретить в скромной статье отрывки из повести, по их мнению, совсем не педагогической; в повести есть и другие отрывки, ничуть не скромнее нами приведенных; но мысль ее все-таки высоконравственная. «Много вас, люди заможные! – говорит автор (с. 137). – Без числа нас, братцы, люди, сытые, а и нет как нет промеж нас сироте горькой проходу безобидного. Что ж тут толковать о честной помощи; уж куда нам людей спасать – хоть бы не топили-то тонущих!». И далее, рассказывая один случай, как Танька обласкала, пригрела урода, он замечает: «Что ж бы это было за сокровище, сколько бы слез осушила на свете Танька, сколько бы добра натворила кругом себя такая душа, если б не толкнули ее в омут распутства?» Если деликатные дамы и господа не понимают этой идеи, а оскорбляются грубою обстановкою простого быта, то им нечего и думать о сближении с народом. Мы, напротив, полагаем, что повести, подобные «Посестре Таньке», имеют гораздо более педагогического значения для народа, чем все умилительные рассказы и бесцветные поучения. Автор коснулся тут самого видного порока, какой представляет жизнь девушки в нашем простом быту, и выставил его со всею истиной: юмор г-на Погосского крепкий, истинно солдатский. Повесть, однако, не во всех частях имеет достаточную оконченность: может, это и необходимо было для той цели, ради которой она написана. Мельком проходит перед вами строитель таниной избушки; он ласковый шалун, пустенький человек, как видно из другого места, но автор выставляет его поступок как-то мягко, добродушно-шутливо. Это особенно заметно там, где дело идет о построении избы: тут не совсем кстати расточается поэзия солдатского быта. Вообще сказать, уж не слишком ли хорошо жилось Таньке между подобным народом? В противоположность щедрым на несколько целковых господам прекрасно выставлены бесхитростные, добрые души солдатиков, способных к самому высокому самоотвержению. Насколько возможны лица, подобные Трофиму Калинычу, мы судить не беремся; но, нет сомнения, что они у автора приправлены романтизмом. Трофим из одной бескорыстной любви к дядьке своему Калине также бескорыстно заботится о Тане, долго любит ее «сухой любовью», сохраняет эту верность, несмотря на ее «распутство, везде кстати является ей на помощь и, наконец, женится на ней, не потому что ему надо как-нибудь устроиться хозяйством, а по той же бескорыстной любви. Выставляя доброе сердце простого человека, автор мог бы придать ему побольше определенного характера; Калиныч порою двигается как по заведенному порядку: нужно спасти сына Тани, он тут как тут; нужно, чтоб она в своем одиночестве предалась пороку, он куда-то уходит по службе. Сын Тани Калинушка уж совсем непонятное лицо. Сначала мы знаем, что он терпит только всевозможные колотушки и не дает никому спуску; потом по доброй воле идет в рекруты. Мы можем, пожалуй, догадываться, что холодность матери, бесцельная жизнь, солдатское воспитание привели его к этому; но автор выставляет более на вид, что он жертвует собою для чужой семьи: солдатская душа уж непременно должна быть доброю. Точно так же ему необходимо было появиться в конце повести, чтоб вполне осчастливить Таню. Впрочем, романтизм, о котором мы говорили, гораздо менее выступает в разобранной нами повести, чем в других: здесь личность Тани, довольно верно схваченный из жизни тип, преобладает над всем.
В рассказе «Дедушка Назарыч», написанном прежде, заметнее преднамеренная идея автора. Здесь любопытна характеристика дедушки по формуляру: «Илья Назаров, сын Назаров, Костромской губернии, из помещичьих крестьян, отроду 18 лет, зачислен рядовым в Великолуцкий пехотный полк… ахти батюшки! Страшно сказать – в 1792 году! Холост, в штрафах не бывал; в сражениях против неприятеля… ай родимые! Целых три листа исписано: и против поляка, и против шведа, и против француза, турка, персиянина, египтянина – против всего, значит, света! Лучше бы штыком в плечо, саблей через лоб и по носу, а картечью только контужен. И все-таки видно не сконфужен! Еще что? Знаки отличия имеет: медали – за шведскую, французскую, турецкую, персидскую кампании; за взятие Парижа особенно; за помощь турецкому султану против египетского паши опять особенно; на владимирской ленте медаль «За спасение погибавших», опять-таки особенно. Кресты: св. Георгия, Кульмской и св. Анны за двадцать лет беспорочной службы. На левом рукаве мундира нашивки: три из желтой тесьмы, а три за вторительную службу – из чистого, отцы мои, золота! По вторительной же службе произведен в унтер-офицеры, и прибавлено в графе о науках: «читать умеет».
Вот этого-то дедушку, когда он от старости ослабел и негоден стал к службе, отпустили с богом на покой, и побрел он на родину, имея не более серебра в кармане, чем сколько пришпилено было к шинели на груди у него. Пришел он домой, но никто не признал его и не вспомнил. Один только нашелся дед слепой: «Помню, помню! – сказал он, – помню, как покойный Назар сына сдавал в рекруты; парнишко был из себя ничего, бравый!» – «Это я, земляк ты мой почтенный!» – сказал Назарыч, кинувшись к слепому. «Ничего, отец мой, не вижу! – отвечал слепой, – а коли ты, так стало-быть это ты сам и есть! Милости твоей просим!»
Какая же судьба постигла Назарыча? Все устроилось, как нельзя лучше. Помещик был человек добрый, немец его управитель тоже очень добрый человек; они определили Назарыча лесником, потому что он не хотел даром есть хлеба; в лесу он устроился домком, взял к себе нищую с ребенком; нищая оказалась тоже очень добрая женщина. Стал Назарыч тереть табак – производство, которым он приобрел себе славу еще в полку. Его приятель пономарь нарисовал ему вывеску, где очень искусно изобразил самого дедушку в облаках с макитрой в руке, а над головой надписано было золотой краской: «Приотменный табак». Вывеска стала привлекать проезжих: немец управитель с братом, оба страшные табачники, закупили у Назарыча весь запас, и старик скопил копейку. Но умерла его хозяйка; мальчик, сын ее, остался сиротою на его руках: дедушка добрым делом помог сиротству милого Васютки. Он спас от смерти одну поселянку, а мужа ее, который нечаянно затерял волостные деньги, избавил от плетей и ссылки, отдав все свои 300 рублей асс. скопленные долголетними трудами: и муж, и жена клялись любить и беречь его Васютку пуще родных детей. Назарыч был теперь вполне счастлив; к тому же помещик отдал ему в полное владение земельку, на которой он жил. «Как бы все так удавалось бедному, доброму человеку, хоть на старости лет!» – скажете вы. Что ж? Об этом приятно прочитать и в книге. Несмотря на всю эту идеальную обстановку, в которой даже пономарь является отличным знатоком искусства, рассказ веден с большим уменьем и естественностью. Сравнивая богатые палаты с хижиной дяди Назарыча, автор говорит: «Там гордый барин бросил вдруг тысячи: ешьте, веселитесь! И никто ему и спасибо не сказал, и не поморщился – бросил и забыл: пришлют, мол, с деревни, не столько еще! А здесь, экая невидаль: триста ассигнаций! Мало ль что – последние!.. Словом, господа, в нашей убогой лачуге, несмотря на всеобщую радость, важного виду никакого не было: тут не важный вид, а жизнь вседневная. То есть совсем простое, подходящее дело. Правда, что дело оно – хорошее!» Эта добрая мысль высказывается в целой повести.
Более твердою рукою очерчены солдатские характеры в рассказе «Сибирлетка», взятом из последней крымской войны. Раненых солдат привозят в немецкую колонию, и рассказ идет о том, как они в ней живут между добродушными немцами, нянча маленьких детей, беседуя за кружкой немецкого пива. Тут является Егор Лаврентьич, прямой и честный ефрейтор, который говорит о своих ранах: «Я ведь только по наружности ободран, то есть порвало некоторые жилы и часть мелких костей порасхрястало, а нутром – совсем здоров, ничего не попорчено». Его характер особенно хорошо выражается там, где он объясняет своему хозяину немцу, что такое значит «оказаться»: «Хороший и откровенный солдат, как только поступит куда-нибудь вновь, так сейчас же и «окажется», то есть окажет себя, какой он такой; не станет морочить людей да прикидываться простотой, а действует прямо, без хитрости; например: испивает он – ну, сейчас же, как поступил куда – возьмет, да и тринк! И тринкнет, выпьет то есть, порядком: знайте, мол, все – я пью». Но лучшим типом всей повести служит Облом Иванович, коренастый, крепкий солдат с безобразной наружностью, у которого брань не сходила с языка, но душа была добрейшая. Приведем рассказ его, составляющий чуть ли не лучшее место в книге: «Всяк бывало, сударь, разно оно было! А мое дело было плохо! Прибыли мы, рекрута, в роту; фельдфебель сделал смотр, взглянул на меня и говорит: «Вона какой еще! Экая дубина, это никак сам леший! Да ты, братец, говорит, просто облом!» А я сробел маленько да и говорю: «Облом, дядюшка; меня так и батька звал». – «Ну, Облом, так Облом! Будет, говорит, к дровам часовой, да приспособить его к швабре!» Меня и приспособили. А там пошло ученье – беда, братец ты мой: ломали с полгода, все брались: что взглянут, плюнут да и отойдут: «Сработал же тебя, мол, леший!» Вот и все. Скоро и год прошел, товарищи все уж по разрядам встали, а у нас все по-старому: капитан подойдет – тихим учебным шагом ма-а-арш! Экая дубина! Скорым шагом марш! Да где ж у тебя нога? – говорит. – Эй, фельдфебель! Поучи сам его, там, мол, знаешь, у плетня. Ну, поучимся, и плетень чуточку попортим, а ноги, сударь мой, не найдем: нет как нет ее бестианской. Приехал майор, посмотрел: «Это, говорит, что за пень? Ну-ко, ма-арш! Скажите мне, капитан, говорит, разве это нога? Разве это – так сказать – образование? Стыдно вам, говорит: погубите вы, сударь, и себя, и меня…» Капитан возьмет – покраснеет да мигнет фельдфебелю: опять к плетню меня, дружка сердечного. Хлоп! Сам полковник смотрит: на шаг, дистанции ма-арш!.. Пошли – и я, сударь, иду. «Стой, стой, стой! Провалитесь все вы, говорит, сквозь землю! Да где, говорит, я найду вам место? Куда, у него, говорит, носки смотрят: это что за разврат такой!» А у меня, вот у этой ноги – Облом Иваныч ударил по деревяшке – носок-покойник смотрел вот так: и он согнул ладонь кочергой да еще в сторону. «Пусть уж нет проноса, – кричит полковник, – пусть нет игры в носке, вольности в шагу – да кой чорт может быть игра, тут совсем ноги нет! Ах, вы, вы! Разумеете, говорит, кто вы?» Меня опять к плетню в гости! И разорили мы с фельдфебелем весь плетень – аж поросятам приятно: переправу открыли им без препятствия, а ноги так и не отыскали, сударь мой! Приехал же, о Господи! сам генерал – взглянул и весь почернел! «Как же вы мне смеете, говорит, представлять это? Я прибыл смотреть, то есть, образование, говорит, а вы мне суете бревно! Как же вы осмелились все – а?» И пошел, и пошел!.. «Спрятать его, подлеца, на кухню или в дрова, с вами я поступлю, говорит, по закону, а мне, говорит, дурно, я болен: солдат идет – и ноги нет! Прошу покорно! Погубите вы государеву армию!» – сказал генерал, а сам весь позеленел и уехал. Вот я с тех пор, аж до первого сражения с туркой, пятнадцать лет варил кашу, а последний раз сварил кашу, да и сам не ел; котла не выполоскал – тревога: таф, таф! Артиллерия, слышу, катает, душа не стерпела, я, сударь, ковш об землю да во фронт! А на мое место отыскался, вишь ты, гусь еще почище меня! Да видно напророчили мне – суди их бог, государь и военная коллегия – такую беду, что подслушал что ли француз мошенник, да ядром-то мне по ногам – фурр! На что-те, говорит, нога! Хорошо еще, что я маленько врозь их держал – уж так и родился раскорякой – вишь, одну отшибло, а то была бы мне нога, сударь мой!»
Главным героем повести собственно служит Сибирлетка, полковая собака, такая же безобразная, но сильная и верная в дружбе, как сам Облом Иванович. Она еще щенком спасена Лаврентьичем от гибели и следовала за ним во всех походах: бегала на учении впереди фронта, выводила свои ноты в такт солдатским песням («или уж напакостит на редкость, говорил об этом Лаврентьич, или одолжит так, что все на бок»); наконец, не оставляла солдат даже в сражении и в Туречине потеряла ногу. Весь полк ее любил; только капитанский денщик маленько гордился за то, что Сибирлетка иногда потреплет стриженого пуделя капитанского. Поймает ее гордый денщик – и ну допрашивать: «Ты, говорит, кто? Ты, маркитант собачий, ротный объедало! Ты не больше, как козел на полковой конюшне; а это пудель капитанский, понимаешь, все равно, что лев!» – да и даст по морде. Длинная история идет о разных достоинствах Сибирлетки и о том, как, несмотря на беспримерную честность, она выказала свою собачью натуру на именинах Лаврентьича, стянув жирного поросенка, подаренного добрым хозяином. Сибирлетка, однако, загладила свою вину тем, что загрызла волка, напавшего на деревню. Лаврентьич, выздоровев, снова идет в сражение и погибает под Севастополем: Сибирлетка четыре ночи воет и, наконец, околевает на его могиле. Вообще, в этом рассказе много выставлено добрых, гуманных сторон в солдатской жизни; но в целом он производит несколько тяжелое впечатление; почти выходит такая мораль, что доброта и честность всегда соединены с сильным кулаком, с крепкими зубами. Может быть, оно так и необходимо в солдатском быту, но эти свойства у нас и без того достаточно процветают; можно бы обратить также внимание и на злоупотребление этой кулачной силой. Кроме того, автор несколько однообразно изображает некоторые характеры: старые солдаты, унтера и дядьки у него всегда образцы добродетели, молодые преданы до гроба своим дядькам и готовы положить за них душу; из всех народов только одни немцы отличаются ангельской добротою и проч.
Из других рассказов, изданных для чтения народа, немногие отличаются достоинствами, на которые мы указали. Нам особенно не понравились те из повестей, где главную роль играют черти. Так рассказ «Первый винокур» имеет цель отучить от пьянства; но что за путаница в этой чертовской истории! Сатана со щетинистой медной бородой, выпуская желтую пену и зеленый дымок из пасти да выплевывая ящериц и скорпионов, выслушивает доклад нечистых духов о том, сколько каждый из них сделал зла на земле. Обстановка подобная же: кругом синее полымя и черные клубы дыма; ужи, жабы, падалицы и ящерицы кишат у подножья: недвижные, растрепанные ведьмы, со змеями в волосах, избоченившись, курят смрадным зельем. Сатана угощает своих слуг бочками кипучей смолы да удавленниками; вот один из слуг, добиваясь подобной награды, определяется батраком к мужику и научает его курить вино. Автор уверяет, что это было в старину, что ныне, напротив, человек перехитрит черта. Какая ж польза от всего этого дикого вымысла? Заставляя верить в бесов, можно бы хоть напугать пьяницу, хотя страх, как чисто рабское чувство, никого не научит добродетели. Хотел ли автор возбудить отвращение к пьянству? Так разве в самом этом пороке нет гнусных сторон, которые отвратительнее всех невинных жаб и ящериц?
Драмы, изданные редакцией «Солдатского чтения», вообще довольно плохи. В одной, например, под названием «Полесовщик», солдат становится на ходули, одевает белую простыню и пугает скупого старика Карпа, чтоб принудить его отдать свою дочь за бедного ямщика Яшу. Действие сопровождается песнями:
Ты помнишь ли, как славно пировалиВ годину злую русаки;Тогда французов поражалиВедь наши русские штыкиВот вам и французский водевиль, перенесенный на солдатскую почву! Вообще, романтизм сильно вступает в свои права в повестях, назначенных для народа. Герой переносит всевозможные испытания, совершает чудеса, каких ни в сказках рассказать, ни пером описать, все, чтоб соединиться законным браком со своею любезною. Таковы рассказы: «Не изведав горя, не узнаешь счастья» (автор Н. Р…ий) и «Похождения Емельяна» г-на Масальского. Последняя повесть знакомит по крайней мере с некоторыми историческими обстоятельствами петровского времени.



