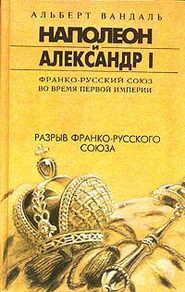 Полная версия
Полная версияРазрыв франко-русского союза
15 августа 1811 г. дипломатическая аудиенция состоялась до обедни. В полдень, когда пушечные выстрелы возвещали городу о торжестве этого дня, император вошел в залу и занял место на троне. Тотчас же были приняты для принесения поздравления и пожеланий высокопоставленные особы, кардиналы, министры, маршалы, кавалеры Почетного Легиона первой степени и другие сановники.[267] После них, в предшествии церемониймейстера и его помощника, был введен обер-гофмаршалом дипломатический корпус. Разместившись вокруг трона, члены корпуса заняли места по старшинству их постов. Князь Куракин занял место, сообразно своему положению, между князем Шварценбергом и испанским послом. Он чувствовал себя лучше обыкновенного и сиял, как солнце, в своем усыпанном звездами и драгоценными камнями одеянии.
Император сошел с трона. Медленным шагом два раза обошел он круг, останавливаясь то тут, то там, чтобы кинуть слово, вопрос или чтобы ему назвали фамилии иностранцев, ходатайствовавших о чести быть ему представленными. В этот день в списке представляющихся находились, кроме баварского генерала и швейцарского полковника, три “гражданина Соединенных Штатов”.[268] Все это заняло некоторое время. В зале было невыносимо жарко. В этот чудный августовский день яркие, жгучие лучи солнца, падая в залу сквозь высокие окна и загораясь ослепительным блеском на массивном шитье мундиров, еще более усиливали тягостное чувство, которое все испытывали от продолжительности аудиенции, от толпы, тесноты и от жуткого чувства предстоять пред вершителем судеб, пред повелителем и верховным судьей. Когда обычные формальности были выполнены, можно было думать, что прием кончен. Большая часть присутствовавших разошлась уже по соседним залам. В Тронном зале оставались только дипломатический корпус да несколько министров и “красных лент”. С минуты на минуту ждали, что император прикажет предупредить императрицу и отбудет в церковь, чтобы отслужить обедню и Те Deum, как вдруг он направился к группе, в которой стоял Куракин.[269]
“Вы сообщили нам новость, князь”, – любезным тоном сказал он. Дело шло о бюллетенях, незадолго перед тем сообщенных русским посольством, в которых извещалось о битве в окрестностях Рущука между турецкой армией и оставленными Россией на Дунае войсками под начальством Кутузова. Дело было жаркое, но не решительное, ибо обе стороны приписывали себе победу. Куракин свыше всякой меры восхвалял храбрость своих соотечественников. Наполеон воздал должное храбрости русских, но обратил внимание Куракина на то, что, тем не менее, они вынуждены были очистить Рущук – свое предместное укрепление по ту сторону Дуная, а, следовательно, потеряли линию реки. По его мнению, пользоваться рекой, как средством перехода в наступление, можно только при условии сохранения за собой возможности действовать на обоих берегах. В Эслинге он считал себя победителем, потому что сохранил остров Лобау, который давал ему доступ на левый берег и позволял напасть на австрийскую армию. Пространно, с обычным мастерством развил он эту тему и прочел пред восхищенными слушателями целую лекцию о тактике.
Отказываясь одержать над ним верх на этой почве, Куракин согласился, что действительно русские должны были отступить за неимением в своем распоряжении для удержания за собой позиции достаточного количества войск, и приписал недостаток в людях недостатку денег, что, якобы, и заставило царя отозвать во внутрь России часть назначенных против Турции войск. Этого только и ждал от него император и тотчас же, с притворным добродушием, сказал ему: “Дорогой друг, если вы говорите со мной официально, я должен сделать вид, что верю вам, или совсем не отвечать вам; но, если мы говорим конфиденциально, то скажу вам, что вы побиты, а побиты вы потому, что у вас слишком мало войск, а мало войск потому, что пять дивизий из дунайской армии вы отослали в польскую, и сделано это не из-за стесненных финансов, которые были бы в лучшем состоянии, если бы эти войска кормились за счет неприятеля, а для того, чтобы угрожать мне”.
Затем предметом разговора сделались передвижения русских войск близ границы герцогства Варшавского. Наполеон, не стесняясь, дал понять, что эти ускоренные марши тем более встревожили его, что казались ему необъяснимыми. “Я похож на дикаря, – сказал он, – чего не понимаю, то возбуждает во мне недоверие”. Поэтому, продолжал он, – и он счел нужным держать ухо востро. В конце концов обе стороны сочли себя обиженными, стали вооружаться, приступили к перемещению войск в громадных размерах, что продолжается и по сие время, и вот – две нации в боевых позах, лицом к лицу, готовы перерезать одна другой горло, не объяснившись даже, за что.
И в самом деле, кого хотят убедить, что истинная причина ссоры Ольденбург? – Великие державы не станут драться из-за Ольденбурга. К тому же Франция предлагала вознаграждение, равнозначащее, “как по объему, так и по содержанию”; она раз десять повторяла свои предложения и не получила ответа. Это значит, что дело идет о чем-то другом; значит, у русских есть задняя мысль, и Наполеон внезапно, резким движением срывает вуаль и обнаруживает сокровенную подкладку спора. Он сказал: “Я не так глуп, чтобы поверить, будто вы хлопочете об Ольденбурге: я ясно вижу, что дело идет о Польше. Вы приписываете мне планы в пользу Польши, а я начинаю думать, что вы сами хотите завладеть ею, может быть, думая, что нет иного способа укрепить с этой стороны ваши границы. Но необходимо, продолжал он, чтобы перестали заблуждаться по этому вопросу, чтобы Россия знала, на что она может рассчитывать. При этих словах император приходит в страшное волнение. “Не обольщайте себя,– вскрикивает он, – будто я когда-нибудь дам вознаграждение герцогу за счет Варшавы. Нет! Даже тогда, когда ваши войска станут лагерем на высотах Монмартра, я не уступлю ни пяди варшавской территории; я поручился за ее неприкосновенность. Требуйте вознаграждения за Ольденбург, но не требуйте ста тысяч душ за пятьдесят, а прежде всего не требуйте ничего из великого герцогства. Вы не получите из него ни одной деревни, ни одной мельницы. Я не думаю о восстановлении Польши; интересы моего народа не связаны с ней. Но если вы вынудите меня к войне с вами, я воспользуюсь Польшей, как оружием против вас. Объявляю вам, что я не хочу войны, и не начну ее в этом году, если вы сами не нападете на меня. Война на Севере не в моем духе. Но если кризис не прекратится к ноябрю месяцу, я увеличу набор на сто двадцать тысяч человек; так я буду делать два-три года и, если увижу, что эта система изнурительнее войны, я начну с вами войну… и вы потеряете ваши польские провинции”.
Далее он говорил, что упорно отстаивая неприемлемое требование, Россия подвергает себя такой же гибельной войне, в какой пали Пруссия и Австрия. Неужели необходимо, чтобы тот же дух ослепления, тот же дух безумия овладевал последовательно всеми государствами и увлекал их в бездну? “Ибо, – продолжал император, внезапно меняя тон и напуская на себя скромность, граничащую с наглостью, – может быть, счастье, может быть, храбрость моих войск, а, может быть, и то, что я сам немножко смыслю в этом ремесле, но я всегда одерживал победы, и надеюсь и впредь одерживать их, если вы принудите меня к войне”.
– Вызнаете, – прибавил он, – что у меня есть и деньги, и люди”. И тотчас же на его голос являются в трепет приводящие видения, выступают как призраки, громадные цифры и со всех сторон стекаются чудовищные войска. “Вы знаете, – говорит он, – что у меня восемьсот тысяч солдат, что каждый год дает в мое распоряжение 250000 рекрутов, следовательно, в три года я могу увеличить мою армию на семьсот тысяч человек, а этого хватит, чтобы продолжать войну в Испании и вести ее с вами. Я не знаю, побью ли я вас, но знаю, что мы будем драться. Вы рассчитываете на союзников. Где же они? Не Австрия ли, у которой вы отняли триста тысяч душ в Галиции? Не Пруссия ли? – Она вспомнит, что в Тильзите ее добрый союзник император Александр отнял у нее белостокский округ. Не Швеция ли? – Она тоже вспомнит, что, отняв у нее Финляндию, вы наполовину разрушили ее. Такие обиды не забываются. Все эти оскорбления требуют расплаты. Весь континент будет против вас”.
Под жестким градом сыпавшихся на него упреков, до глубины души взволнованный этой сценой, сделавшей его предметом всеобщего внимания, оскорбленный обвинением в вероломстве, которое косвенно переносилось и на него, Куракин совсем опешил. Тем не менее, он пытался исполнить свой долг и употреблял величайшие усилия защитить свою страну и своего повелителя. Но как говорить с государем, который всякий разговор превращает в монолог? Тщетно посланник истощался в усилиях, пытаясь вставить свое слово. Приблизительно около четверти часа стоял он с открытым ртом, в ожидании, когда неиссякаемое вдохновение его собеседника позволит ему начать фразу, бывшую у него на языке.[270]
Но вот Наполеон остановился перевести дух. Куракин воспользовался этим моментом, чтобы выйти из смешного положения и чтобы сказать, что русский император “самый верный союзник Франции и даже друг его императора”. – “Это те же речи, что говорятся и в Петербурге моему посланнику, – прервал его Наполеон; – но на что мне слова, если они опровергаются фактами и если сами же вы опровергаете их своим протестом по поводу присоединения Ольденбурга? Или вы сделали это в угоду англичанам?” – продолжал он. И он перешел к Англии. Он обрисовал, как она господствует на политическом горизонте, как нити всех интриг сосредоточиваются в ее руках, как она тащит и уже перетягивает на свою сторону Россию. В подтверждение этой картины, он напомнил о сделанных британской торговле облегчениях, о неслыханном развитии контрабанды. С особой силой напирал он на эти обиды, наполнявшие горечью его сердце.
В редкие минуты передышки, которые предоставлял ему Наполеон, Куракин ограничивался уверениями, что главная забота и сердечное желание его повелителя – прекратить раздор. Чтобы наказать Куракина за ссылки на ничем не оправдываемые намерения царя, Наполеон вдруг задал ему категорический вопрос и припер его к стенке: “Что касается того, чтобы сговориться, – сказал он, – я готов. Имеются ли у вас необходимые полномочия начать переговоры? Если – да, я сейчас же дам полномочия на переговоры”.
Посланник вынужден был ответить, что у него нет “необходимых полномочий для заключения сделки”; но что он поторопится сообщить в Петербург о выраженном Его Величеством желании, и ничуть не сомневается, что таковое желание заставит сделать крупный шаг на пути к соглашению. Неопределенность и замешательство, сквозившие в этом ответе, лишний раз осветили императору положение дел. “Напишите, – скептически сказал он, – я ничего не имею против; но ведь ваш двор давным-давно знает то, что я вам только что сказал. Я говорил это и Чернышеву, и генералу Шувалову, да и посланники мои в течение четырех месяцев не перестают повторять это”.
Он сам повторил все, что говорилось и писалось; говорил долго, как бы упиваясь своими словами, употребляя выражения, бьющие на эффект, услащая свою речь изобилием образов и метафор. – Отчего, – спрашивал он, – в тот самый момент, когда Россия наиболее серьезно была занята на Дунае, она повернулась и стала против Польши? – Вы поступаете, – продолжал он, как подстреленный заяц, который поднимается на лапы и мечется, как безумный, выставляя всего себя под новый заряд. Зачем тянуть неопределенное положение – ни войну, ни мир? Когда два дворянина поссорятся, когда, например, один даст другому пощечину, они дерутся, а затем мирятся. Правительства должны были бы поступать так же – открыто и честно вести войну или заключить мир. Так нет! Россия предпочитает уклоняться от какого бы то ни было решения вопросов; она, очевидно, до бесконечности хочет тянуть тягостное для всех положение. – Вот какие взгляды старается внедрить император всем своим слушателям, всем дипломатам и окружающим его европейцам; вот к чему направлены его рассуждения и бесконечные повторения. Воздерживаясь от слишком резких выражений, прикидываясь спокойным, якобы от сознания своей силы, третируя посланника с благосклоннейшей жалостью, он, через его голову, хлещет его правительство. Отдавая полную справедливость добрым намерениям Куракина, он подавляет его непреодолимой силой своих рассуждений. Наконец, после пытки, тянувшейся три четверти часа, он отпустил его, и бедный князь удалился, расстроенный, красный как рак, обливаясь потом, еле переводя дух от волнения, задыхаясь под тяжестью своего красивого, шитого золотом, кафтана, рассказывая всем, “что у Его Величества было очень жарко!”. Но так как принято дипломатический разговор кончать призывом к миру, то и последние слова императора носили миролюбивый характер. В заключение он выразил надежду, что можно еще избежать войны и ее бедствия, если Россия пожелает объясниться иным путем, а не загадками. Но что значило это, ни к чему не обязывающее его, желание придти к соглашению рядом с воинственной суровостью его рассуждений, с угрожающим тоном речи, с внезапным взрывом гнева?
III
На другой день, 16-го, вернувшись в Сен-Клу, Наполеон приказал доставить себе все бумаги, относящиеся к переписке с Россией, начиная со свидания на Немане. В этот же день статс-секретарь, министр иностранных дел герцог Бассано был приглашен для работы с Его Величеством. Его работа состояла в том, чтобы набрасывать на бумагу соображения, приходящие на ум императору при рассмотрении того или иного вопроса, как по существу, так и на основании документов, и записывать принятое решение. Министр держал перо, округлял фразы, иногда смягчал выражения, но идея исходила от повелителя. Император чувствовал потребность излагать свои идеи в положительной, догматической форме, дабы яснее вникнуть в собственные мысли и в те причины, которыми обусловливалось его поведение. Это было нечто вроде доклада, который он составлял для самого себя и выводы из которого устанавливали его волю[271]. На этот раз задача, подлежащая решению, была следующая: “В таком ли положении отношения Франции к России, чтобы опасаться войны, и нужно ли делать новый рекрутский набор и разрешить предлагаемые военными министрами расходы?”[272].
Накануне, в разговоре с Куракиным, Наполеон, под влиянием гнева, объявил во всеуслышание, что знает притязания России, и что никогда не согласится на них. Теперь он снова берется за этот вопрос и обсуждает его с самим собой, хладнокровно, со спокойной головой. С привычной ему остротой мышления, он идет прямо к сути дела; он удаляет из него все неопределенное, выбрасывает все случайное, внесенное без всякой надобности, только для того, чтобы навести туману и скрыть его истинный характер. Он освобождает его от всего наносного, срывает все покровы и ставит перед собой, как мраморное изваяние. Обстоятельно, в строгом порядке, рассматривает он все умозаключения, которые приводят его к мысли, что Россия посягает на неприкосновенность герцогства Варшавского. Должен ли он согласиться на это притязание или отказать? Вот это-то он и хочет обсудить. Он взвешивает все за и против, подводит итоги доводам, говорящим в пользу того и другого решения. Слепой, увлекающийся поклонник строгой логики, он целым рядом сильных рассуждений приходит к тому, что решает вопрос в отрицательном смысле и высказывается за ужасный конфликт и за войну. Благодаря вышеизложенному, мы имеем в оправдание его кампании 1812 года им самим продиктованный документ.
Прежде всего, он устанавливает в принципе, что война с Россией несвоевременна и нежелательна, ибо отвлечет наши силы от Испании и вынудит нас бросить там все не оконченным. Она вызовет ужасающую трату людей и денег, и “никогда не даст выгод, стоящих жертв, которых она может потребовать”. Следовательно, желательно ее избегнуть. Возможно ли это? Чтобы ответить на этот вопрос, император крупными штрихами рисует историю своих отношений с Александром I, начиная с заключения союза. Он мысленно переносится в Тильзит, затем в Эрфурт, улавливает в 1809 г. конфликт в первичной стадии его развития и неопровержимо доказывает, что “бесспорная трудность настоящего положения” происходит от поведения русских до и во время последней кампании против Австрии; от то-то, что их дипломатическая и военная деятельность не стала на высоту требований того времени.
Если бы император Александр, как заклинал его Наполеон, твердо заговорил в Эрфурте; если бы он пригрозил Австрии, та поняла бы, что франко-русский союз – не фикция. Она побоялась бы выступить сразу против двух великих монархий и отказалась бы от войны. На границах России не произошло бы никакой перемены: Галиция осталась бы при прежнем хозяине. Далее говорится: “Если бы Россия – раз война возникла – приняла в ней участие, как ей надлежало с самого начала, и употребила бы в дело значительные силы, она первая вошла бы в Галицию, и войска герцогства Варшавского явились бы туда только в качестве вспомогательных. Случилось как раз обратное. Восточную Галицию завоевали войска герцогства Варшавского; обитатели ее взялись за оружие против (нашего) врага, и ко времени заключения мира эта провинция очутилась в таком положении, что ее нельзя было вернуть Австрии, и Его Величество вынужден был поставить в числе условий ее присоединение к герцогству Варшавскому”. Итак, Россия очутилась пред лицом наполовину восстановленной Польши, что возбудило ее тревоги. Гарантии, которые были даны или же предложены – уступка одного округа Галиции, отправка варшавских войск в Испанию, договор, содержащий обстоятельство не восстанавливать Польского королевства – показались недостаточными. Россия по-прежнему в тревоге; она готова ухватиться за первый случай, чтобы нарушить порядок вещей, ответственность за который лежит на ней самой и который, тем не менее, она считает несовместимым со своей безопасностью.
Предлогом, за который она ухватилась, было присоединение Ольденбурга к Французской империи. Постановления британской палаты вынудили Его Величество присоединить к Франции ганзейские города, дабы закрыть порты Северного моря английской торговле. Герцогство Ольденбургское было включено в это присоединение. Россия заступилась за герцога Ольденбурского. В вознаграждение был предложен Эрфурт. Россия отказалась от него. Вместо того, чтобы просить другого вознаграждения, она выступила с публичным протестом – прием беспримерный в истории союзных государств. Она начала протест с оговорок и кончила выражением желания сохранить союз; откуда с достаточной ясностью следует, что она хотела только поднять побольше шума из-за Ольденбурга, не доводя дела до конца и оставляя средство к соглашению.
Ее планы начали обнаруживаться. Было ясно, что они направлены против герцогства Варшавского, существование и расширение которого внушают ей беспокойство, и что задача этих планов – если не полное присоединение герцогства к русско-польским провинциям, то, по крайней мере, присоединение некоторой его части, что неизбежно должно привести герцогство к полному разрушению. Отказ принять в виде вознаграждения Эрфурт был мотивирован тем, что эта страна не смежна с Россией; но единственная смежная с Россией страна, на которую Его Величество может иметь некоторое влияние – герцогство Варшавское. Намеки, сделанные на словах полковником .Чернышевым и графом Румянцевым, дали понять, что дело Ольденбурга устроится тогда, когда придут к соглашению по делам Польши. Тогда становится вполне понятным, для чего Россия вмешалась в дело Ольденбурга; для чего, выражая протест, она подтвердила преданность союзу; почему, наконец, отказываясь от Эрфурта, она не сообщала, чего желает.
Если она считает себя оскорбленной, почему не объявляет войны? Если хочет крупных вознаграждений, отчего не открывает переговоров? – Ведь всякий спор между правительствами кончается одним из двух способов. Но Россия хочет того, в чем не смеет сознаться. Она хочет уступки от 500000 до 600000 жителей герцогства в вознаграждение за Ольденбург. Вот что до очевидности вытекает из протеста, намеков, даже молчания России.
Итак, все наводит на мысль, что можно было бы сохранить мир при желании уступить Русскому государству от 500000 до 600000 душ герцогства Варшавского, и мнение Его Величества таково, что, если бы в герцогстве существовала особая народность от 500000 до 600000 душ, которой бы он был вправе располагать и которую мог бы, не поступись своей честью, присоединить к России, такая уступка была бы предпочтительнее войны. Но все части герцогства одинакового происхождения; составлены из одних и тех же элементов; все они принадлежат к одному и тому же народу, который, хотя и подвергся разделу, но всегда поддерживает свое право на суш ее гаев а кие. По мере того, как одна из частей его, которая некогда была отделена, присоединяется к другой, она сливается с ней для образования тела нации. Таков характер теперешнего существования герцогства Варшавского. Следствием отделения от него какой-либо части будет его разрушение. России хорошо известно это. Она прекрасно знает, что если ей удастся заставить о герцогство сделать шаг назад, дело не остановится на этом; что, когда оно потеряет от 500000 до 600000 жителей, его полная гибель наступит при первом благоприятном случае; что она приобретет надежду привлечь герцогство к себе, как только тот увидит, что тот, кто дал ему жизнь, отрекся от его интересов; что хотя поляки и с сожалением расстанутся с отеческими и либеральными законами саксонского короля, они вынуждены будут принести эту жертву, дабы упрочить свое положение, ибо самое большое несчастье, какое может постигнуть нацию, – это неуверенность в своем будущем; что, наконец, достаточно нанести существованию герцогства Варшавского удар в каком бы то ни было отношении; достаточно, чтобы оно перестало рассчитывать на защиту мощной руки, благодаря которой оно существует, чтобы все, что остается от Польши, попало в руки России.
Рассуждения эти правильны. Несомненно, что уступка от 500000 до 600000 жителей повлечет за собой уступку всего герцогства. Следовательно, вопрос должен быть поставлен иначе. Следует рассмотреть: в интересах ли Франции увеличить Россию на все герцогство?
Такое увлечение перенесет границы России на Одер и на границы Силезии. Это государство, которое Европа в течение целого столетия тщетно старалась удержать на Севере и которое, благодаря стольким захватам, распространилось уже много дальше своих естественных границ, сделается большой силой на юге Германии и будет вмешиваться в дела остальной Европы, чего здравая политика не может допустить. При том, получая благодаря новому географическому положению опасные выгоды, оно, вместе с тем, в течение немногих лет увеличилось бы, благодаря захвату Финляндии, Молдавии, Валахии и герцогства Варшавского на 7 или 8 миллионов душ населения, и приобрело бы такое усилие своего могущества, которое нарушило бы всякую пропорцию между ним и другими великими державами. Таким образом, подготовился бы новый порядок вещей, который поставил бы под угрозу все государства Юга, который вся Европа с ужасом всегда предусматривала и который, быть может, совершится на глазах подрастающего поколения.
Итак, Его Величество решил поддерживать силой оружия существование герцогства Варшавского, каковое существование неразрывно с его целостностью. Этого требуют интересы Франции, Германии, всей Европы; это предписывается политикой и, сверх того, это вменяет в обязанность Его Величеству долг чести.
Во второй части записки говорится о торговой и экономической распре. Упомянув об указе, направленном против французской торговли, император останавливается на открытии русских портов для ввоза колониальных товаров и видит в этом полное отрицание правил блокады. Но эти меры, взятые в отдельности, несмотря на всю их важность, не могут служить достаточным поводом к разрыву. “Достойны сожаления те государства, которые вздумали бы сражаться из-за “частных торговых интересов”. Но вменяемые в вину факты имеют существенное значение как показатели и симптомы. Они указывают на все усиливающийся поворот России к Англии, обнаруживают ее пристрастие к нашим врагам, желание сблизиться с ними, что мало-помалу приведет оба государства к полному единению, а посему император решил, не дожидаясь этого неизбежного завершения русской политики, “поддержать свои права с оружием в руках. Если бы Франция предпочла предоставить России заключить мир с Англией, рассчитывая этим избегнуть войны, она не достигла бы своей цели. Мир, заключенный одним из союзников с общим их врагом, – не только без предварительного соглашения, но; даже с нарушением договоров, – быстро приведет к открытому разладу, что в скором времени понудит Россию беззаветно отдаться Англии. Она примет участие в ее интригах, и война будет неизбежным и ближайшим результатом такого странного положения”.
Таким образом, с какой бы точки зрения ни рассматривалась распря, конец всегда один и тот же – война. Все рассуждения императора, все рассматриваемые вопросы, словно сходящиеся к одному пункту дороги, приводят его к одному и тому же заключению: к необходимости войны. Относительно характера войны Наполеон решает, что она непременно должна быть наступательной. Но теперешнее положение его приготовлений, запоздавших по причине их громадных размеров, пока еще препятствует ему взять на себя инициативу. Затем переговоры с Австрией, Пруссией, с другими государствами, которых надлежит завербовать в наши ряды, находятся еще в зачаточном состоянии и, наконец, летний сезон подходит к концу, что помешает успешному выполнению в 1811 г. целого ряда операций. На Севере, где огромное затруднение для нападающего представляет снабжение войск продовольствием и, в особенности, фуражом, самое выгодное для военных действий время – конец весны. В это время .-поздняя, но обильная растительность “родит фураж под ногами лошадей”[273]. Кавалерия, артиллерия, военные обозы найдут на месте чем прокормить лошадей, не прибегая к трудному и разорительному снабжению транспортами. В это время года восточная Пруссия и Польша, с их плодородными равнинами и громадными лугами превратятся для нас в созданный самой природой продовольственный склад и богатейшую житницу.



