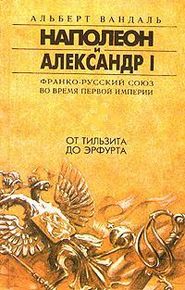 Полная версия
Полная версияОт Тильзита до Эрфурта
Впрочем, вдохновителей общества не следует искать среди русских. “Обществом, по своему усмотрению, повелевает дипломатический корпус, – говорит Савари, – он направляет умы и руководит развлечениями”. Итак, вся сила враждебности – в дипломатическом корпусе. Посланники Англии и Австрии ведут войну с нами; агенты других дворов действуют по их указаниям; даже агенты тех государств, о которых Наполеон думает, что они подчинились его политике, открыто или исподтишка враждуют с нами. Более того, в Петербурге заставляют себя выслушивать и признавать оракулами фиктивные дипломаты, представители несуществующих государств, посланники государей, низложенных Наполеоном. Деятели далекого прошлого, как например, старый герцог Серра Каприола, состоящий уже тридцать пять лет[185] неаполитанским посланником, заставляют сторониться посла победителя Европы. Что прикажете делать, если среди послов изгнанных королей встречаются противники, пользующиеся таким большим влиянием! “Здесь встречаешь, – говорит Савари, – графа Де Местр (Жозефа Де Местр), который все еще думает, что он состоит послом Сардинии. Это человек умный и свой человек в домах австрийского и английского посланников. Ему, может быть, скорее следовало бы быть в Митаве, чем здесь, если уж он так упорно хочет быть посланником короля Калияри.[186]
Эти первые свидания не вполне удовлетворили Наполеона. Он ожидал картину, а ему посылали серию набросков. Он потребовал от Савари более точных, а главное более глубоких наблюдений. Устремив пытливый взор на далекую и неведомую ему Северную империю, он спрашивал себя, представляет ли та группа вельмож, которая собралась вокруг трона, все мыслящее и действующее в нации или за этой светской Россией скрывается другая, менее склонная к предрассудкам, где наше влияние могло бы найти точку опоры. “Будьте любезны уведомить, – приказал он написать Савари, – не существует ли другого общества, более далекого от трона, но ближе стоящего к народу”.[187] На этот вопрос Савари мог смело, как он это и сделал, ответить отрицательно, за исключением группы купцов, в России не было среднего сословия. За дворянством непосредственно шел простой народ, та, по-видимому, косная, недоступная никакому внешнему влиянию масса, в которой ничто не проявляло внутренних сил, дремавших в ее груди. Чтобы иметь возможность вести борьбу с аристократией и приобрести в ее среде союзников, необходимо было изучить только ее. Савари вполне основательно стремился проникнуть в ее среду и сделать ее предметом своих наблюдений. В деле осады аристократии Александр продолжал оказывать ему помощь. Государь действовал путем личного влияния; он старался воздействовать на своих приближенных и “на дам”, за которыми немного ухаживал”. – “Мне сообщили из совершенно верного источника, – прибавляет Савари, – много маленьких анекдотов по поводу его ухаживаний, в которых он имел случай выказать всю искренность своей преданности к Вашему Величеству. Дошло до того, что он поссорился с одной особой, к которой относился благосклонно и взаимностью которой пользовался, из-за того, что она посмела рассуждать с ним обо всем, что произошло между, ним и императором французов”.[188] Со своей стороны Савари и сам обратился за содействием к тем из дам, которые уже подпали под влияние обольстительного монарха; и у одной из них встретил самый блестящий успех.
Среди петербургских красавиц царь особенно отличал жену Александра Нарышкина, прелестную и поэтичную Марию Антоновну. Поклонение, которое он ей создавал уже несколько лет, было нежно и постоянно, хотя и не исключало других увлечений. Принятый в доме ее мужа, Савари был любезно встречен ею, нашел, что она хорошо относится к нам и счел возможным расположить ее в нашу пользу ценою маленьких услуг. Достаточно было бы доставить ей средства обеспечить ее решительное превосходство над соперницами на почве изящного и моды. Только Париж мог доставить эти средства. Несмотря ни на что взоры русских все еще обращались к столице роскоши и вкуса; многие прощали Франции ради Парижа. Савари с корыстным усердием тотчас же подумал о том, чтобы выписать из Парижа, все, что могло понравиться Нарышкиной, и сделался ее поставщиком. Он написал об этом Дюроку и Коленкуру, но главным образом поручил это дело молодому французскому офицеру де Сеншаман. Конечно, ничто не должно было делаться без разрешения императора.
Идея понравилась Наполеону. Он только нашел, что Савари не был достаточно скромен и посвятил в дело слишком много людей. “Все, что касается частной жизни государя, должно быть для него священно.” – приказал передать Наполеон Савари.[189] Так как это было государственное дело, то следовало обратиться по этому поводу прямо к императору, который пожелал взять лично на себя это поручение. После министерского выговора, он собственноручно, в дружески бесцеремонных выражениях написал Савари: “Я и не знал, что вы такой дамский угодник, каким вы оказались на деле. Но тем не менее, наряды для ваших русских красавиц будут вам отправлены. Я беру расходы на себя. Передавая наряды, вы скажете, что случайно распечатав депеши, в которых вы их требовали, я сам хотел их выбрать. Вы знаете, что я отлично понимаю толк в туалетах”.[190]
Неизвестно, нужна ли была такая предупредительность, чтобы окончательно привлечь на нашу Сторону Марию Антоновну; ею руководили более серьезные побуждения. В действительности она не особенно любила Францию и еще менее политику; но она нежно любила Александра. Делаясь нашей союзницей, она верила, что служит его заветным желаниям, его интересам и даже делу его личной безопасности. Ее содействие было нам не бесполезно. Савари несколько раз передавал царю полезные советы через ту, которую царь, говоря языком сентиментальных рыцарей, называл “предметом своих отдохновений”. Кроме того, Нарышкина охотно помогала генералу в его светских делах и облегчила ему доступ во многие салоны.
В русском обществе была сделана брешь; зато рвение наших противников удвоилось. Будучи до сих пор бесспорными господами положения, они ограничивались при своей обороне только презрением; но по мере того, как выяснялся характер деятельности Савари – создавалось и их сопротивление. Открылась война салонов. Те кружки общества, доступ к которым был нам закрыт, – а их было значительное большинство – предали анафеме других; достаточно было какому-нибудь дому принять французов, чтобы другие отшатнулись от него. В то же время общественное мнение, точно с цепи сорвавшись, набросилось на Александра. Тон разговоров из ворчливого, каким он был до сих пор, перешел в ожесточенный; злословие принимало более опасный характер; поговаривали о необходимости добиться во что бы то ни стало перемены политики, хотя бы даже ценою перемены главы государства. Савари, до сведения которого дошел этот ропот, спрашивал себя, не следовало ли видеть в этом симптоме предвестника катастрофы. Воспоминание о 1801 г. овладело его умом; его врожденная склонность к сыску заставляла его видеть повсюду заговор. Он опасался, как бы Александра не постигла участь Павла I. Считая, что долг перед Наполеоном обязывал его заботиться о безопасности царственного друга, он добросовестно отнесся к этому делу. Он взялся за русскую историю, отыскивая в ней описание прежних переворотов; спрашивал себя, каким путем можно было предупредить их, умолял Александра прибегнуть к мерам охраны, возбуждал бдительность его приближенных и добровольно взял на себя роль его министра полиции.[191] Он дошел до того, что доносил ему о неосторожных или преступных словах, говорившихся в его армии. Прием, оказанный его предостережениям, побудил его к шагу, который, по его мнению, мог дать решительные результаты. Что если бы ему удалось наглядно показать Александру опасности, могущие произойти от чрезмерной терпимости. Навести его на мысль переменить своих советников, почистить высшую администрацию и удалить подальше коноводов враждебной партии? Такое проявление власти обуздало бы гордое общество, не желавшее сдаться.
Сначала Савари позондировал почву у Нарышкиной. Там его намеки были отлично приняты. Его умоляли поговорить с императором, быть с ним откровенным и настойчивым. “Помните, – говорилось ему, – что вы можете ему все сказать и что он вас выслушает”.[192] Но, так как Савари не решался взять на себя инициативу подобного объяснения, Нарышкина сказала: “Ну, хорошо! В таком случае с вами заговорят и мы посмотрим, хотите ли вы служить ему… По крайней мере, – прибавила она, – постарайтесь сделать его более злым.[193]
Через день после этого разговора Савари, в полной парадной форме присутствовал на смотре и сопровождал верхом императора. Когда проходили войска, Александр сделал ему знак, чтобы он занял место возле него и сказал: “Сегодня вы обедаете со мной. Вечером не уезжайте, мне нужно с вами переговорить”. Во время разговора Савари должен был сказать все, что знал. Он в резких чертах обрисовал злословие салонов возрастающую агитацию и зловредное поведение некоторых лиц, указал на необходимость для предупреждения их планов действовать против них решительно и положить конец их развращающему влиянию на общественное мнение. “Общественным мнением, – прибавил он, – отнюдь не следует пренебрегать. Оно что-то замышляет; с ним крайне необходимо быть настороже и мечом рассечь тучу. Иначе, если за ним не наблюдать, оно в конце концов, охватит все умы до такой степени, что, когда, наступит момент исполнить обязательства, принятые на себя Вашим Величеством, вы найдете все пружины ослабленными, даже среди членов правительства… Мне кажется, что Ваше Величество много выиграет, если удалить слишком явно оппозиционных людей и заместить их другими, известные принципы которых помогут привести в исполнение предначертания Вашего Величества. В противном случае, возможно, что в непродолжительном времени интрига, даже крамола, и вопли всего торгового сословия заставят вас поколебаться в выборе между Англией и нами. Признаюсь, Государь, я предвижу такой момент”…
Царь прервал его, и, взяв за руку, сказал: “Генерал, мой выбор сделан, ничто не может его изменить. Не будем говорить об этом, а подождем событий”. После этого он в трогательных выражениях просил Савари не судить о России по некоторым интриганам, пренебречь их происками и противопоставить им спокойствие и презрение. Он говорил, что работает над тем, чтобы поставить все на другую ногу, но что при этом он должен поступать осторожно и не торопиться; что ему нужно победить массу предрассудков, перевоспитать народ. Задуманная им перемена могла совершиться только постепенно. Сверх того, он утверждал, что никакая интрига не собьет его с намеченного пути и не помешает идти к своей цели. Он намекнул, между прочим, и на разлад, который старались посеять между его матерью и им, и, постепенно оживляясь, сказал: “Я очень люблю моих родных, но я царствую и хочу, чтобы ко мне относились с уважением”. – “Говоря это, – прибавляет Савари, – император, видимо, начинал горячиться. Он вдруг остановился, устремив взоры в пространство, затем взял мою руку, пожал и продолжал: “Вы видите, генерал, что я отношусь к вам с большим доверием, ибо посвящаю вас в мои интимные отношения к семье. Я рассчитываю на вашу скромность и преданность”.[194] Такая вспышка казалась искренней, но ею и окончился разговор, не приведший ни к какому результату. Савари понял, что ничто не могло побудить его на решительные меры и жестоко поступить с оппозицией, где было много лиц, дорогих его сердцу.
Так как попытка покончить с оппозицией одним ударом не удалась, Савари вернулся к делу медленной осады. Он был неутомим. Верный данному предписанию, состоявшему в том, чтобы во что бы то ни стало найти себе доступ в общество, он не падал духом от дурных приемов. Если ему отказывали у дверей “петербургской красавицы”, он являлся во второй, в третий, в четвертый раз, когда, наконец, его принимали.[195] Если он встречался с противниками, он принимал бой и держался, как подобает храброму воину. В этот период времени мы видим, как он ведет непрерывную борьбу, говорит авторитетно, всегда готов к едкому ответу, смело подхватывает всякий злорадный намек и заставляет относиться с уважением к своему императору и своей нации. Если он слишком часто заменяет такт самоуверенностью, если у него иногда сказывается дурная привычка высказывать революционные мысли за столом дипломатов старого режима, зато мы также слышим, как он отражает самохвальство наших врагов словами, вызывающими смех. Какой-то англичанин с ехидством заговорил о нашей потери Египта. “Это произошло от того, что императора самого там не было, – живо ответил генерал, – пошли он туда только свою ботфорту, и вы обратились бы в бегство. Удивляя странностью своих манер, он подкупал своею то резкой, то цветистой речью и кончил тем, что внушил к себе всеобщее уважение.[196]
Чтобы ослабить предубеждения императрицы-матери и ее двора, употребленное им средство не было плохо выбрано. Он просил разрешения посетить одно из больших благотворительных учреждений, созданных Марией Феодоровной, которым она лично заведовала и любила показывать как образец. Он очень громко восторгался всем, что ему показывали, и вскоре узнал, что его одобрение произвело благоприятное впечатление. Некоторое времени спустя, хотя, он лично и не имел доступа ко двору императрицы-матери, он сумел ввести туда молодого французского офицера де-Монтескье, который был принят благодаря своему аристократическому имени, несмотря на невысокий чин. Хотя он не проник, сам, но, благодаря сделанной бреши, он мог бросить взгляд на внутренний строй этой крепости и завязать в ней кое с кем отношения. Таким образом, он достиг того, что владел даже в самой враждебной среде, если не партией, то, по крайней мере, соучастниками, и если и не привлек на свою сторону лиц другого толка, то мог познакомиться с позициями, которые нужно было завоевать, узнать их слабые стороны, изучить средства, которыми легче добиться успеха, – одним словом, установить свое мнение о настроении русского общества и способах овладеть им. После пятимесячного пребывания сборник трудов, под названием “Заметки о Русском дворе и С.-Петербурге” передал императору результат своей разведки.[197]
II
“Путешественник, приехавший в С.-Петербург, – говорит Савари в своем донесении, – совершенно ясно различает в нем четыре отдельных слоя: двор, дворянство, купечество и народ, который находится в крепостной зависимости”. Коснувшись бегло двора, он добавляет только несколько подробностей к сообщенным уже сведениям об императоре Александре, в искренность чувств которого верит все более. На минуту он останавливается перед загадочной фигурой императрицы Елизаветы, тайну которой никто еще не разгадал. “Вот уже четырнадцать лет, – говорит он, – как царствующая императрица здесь. Ее характер еще не разгадан даже теми, кто видит ее чаще всего. В обществе она до такой степени сдержана, что у нее не вырывается ни одного слова, ни одного взгляда, по которым можно было бы о ней судить”. Савари считает ее очень умной, с выработанным суждением, а “так как она, – говорит он, – много занимается серьезными вещами, много читает, правильно судит о наших выдающихся писателях, восхищается, читая наших трагических авторов”, то он думает, что легче было бы “овладеть ее умом, чем сердцем”. Но зачем стремиться проникнуть в душу той, которая хочет остаться непроницаемой? Императрица менее, чем когда-либо, желает играть роль. Нам нечего надеяться на ее поддержку, равно как и опасаться ее враждебности. “Оказанное время от времени внимание, любезно поднесенный подарок удержат ее на пути, избранном императором, ее супругом”.
Следует, во что бы то ни стало привлечь на свою сторону императрицу-мать и ее салон. Какими способами можно добиться этой победы? Савари избегает высказаться и сказать что-нибудь определенное по этому вопросу. По его мнению, попытаться можно, даже следует; но это дело настолько серьезно и щекотливо, что пусть император возьмет его лично на себя. Его непогрешимая мудрость подскажет ему, как довести его до желанной цели. Между прочим Савари подметил, что императрица Мария была крайне чувствительна к знакам внимания. Ей дорого всякое доказательство уважения, она свято хранит самые незначительные подарки, особенно, если они являются знаками внимания или предупредительности. Она живет окруженная предметами, которые все вызывают воспоминания, из которых одни говорят ее сердцу, другие ее самолюбию. Ее дворец в Павловске – храм прошлого. Посетив, как путешественник, ее чудную резиденцию, Савари видел там кабинет императора Павла, сохраненный в том виде, как он был в минуту его смерти.[198] В парке ему показали рядом с мавзолеями и надгробными урнами, воздвигнутыми императрицею в память ее усопших родителей, деревья, которые имеют свою историю, ибо они сажались по желанию Марии Феодоровны в день рождения каждого из ее детей и были посвящены воспоминаниям о ее семейных радостях. Он также обратил внимание на музей с подарками царствующих особ, на севрский сервиз, присланный Людовиком XVI и украшавший малые апартаменты императрицы, на обои, подарок Людовика XV Екатерине II, – приобрел уверенность, что такого же рода подарки от необыкновенного человека, на котором сосредоточено внимание всего мира, будут приняты с признательностью, лишь бы они были выбраны со вкусом, скромно предложены и до известной степени могли сойти за утонченную дань уважения. “Изящный выбор, – говорит он, – и искусство поднести, – вот что, главным образом, придает цену подобным вещам. Это произвело бы тем лучшее впечатление, что здесь, в особенности при этом дворе (при дворе императрицы-матери), есть люди, убежденные, что в царствование императора Наполеона наши фабрики и мануфактуры не выделывают уже таких изящных вещей, как в царствование королей. Очевидно, думают, что мы обошлись с искусством и ремеслами, как турки и арабы”.
Остановив на некоторое время внимание своего высокого читателя на Павловске, он заставляет его сделать быстро обзор дворца в Стрельне, местопребывании великого князя Константина. Великий князь почти совсем офранцузился; так как он любит только военное ремесло и легкие удовольствия, то Наполеон его бог, а Париж его рай. Он желает снова увидеть Наполеона и познакомиться с Парижем. Пока он живет один со своим уланским полком, в тридцати верстах от Петербурга, и здесь он приблизительно воспроизводит привычки и занятия своего деда Петра III. Как и тот, он безумно играет в солдатики. Его дворец содержится как крепость. Все мелочи крепостной службы соблюдаются со всей строгостью. Покои великого князя представляют арсенал; его библиотека состоит только из сочинений, относящихся к армии. Устремив взоры на великую военную нацию Запада, он беспрестанно отыскивает в ней предметы для кропотливого изучения и бесцельного подражания. Для украшения своих садов он заставил французских пленников соорудить в миниатюре Булонский лагерь; музыканты его кавалерии играют только французские мотивы; во время развода его уланы дефилируют при звуках Chant du départ. К тому же, благодаря своему причудливому нраву, Константин Павлович не пользуется в армии особенной любовью; его упрекают в том, что он только военный, а не воин; да и сверх того этот наш новоявленный новобранец, несмотря на его положение в императорской фамилии, по-видимому, вовсе не способен сблизить с нами просвещенное общество Петербурга.
Общество, которое исключительно состоит, из дворян, доставляет Савари сюжет для подробной, крайне жизненной и очень язвительной картины. Не доходит ли суровость Савари до несправедливости? Мы склонны были бы так думать, если бы его описание не было согласно с описаниями других лиц, имевших возможность наблюдать лучше, чем он, при том принадлежащих к другим слоям общества и руководившихся совершенно другими побуждениями и склонностями. Его донесение является безжалостным, быть может, преувеличенным, но логическим развитием известных наблюдений, приводимых князем Адамом Чарторижским в его мемуарах и Жозефом де-Местром в его переписке.[199] Мы, однако же, не прочь признать, что Савари, очерчивая тех людей, которые столько раз его выпроваживали, не забыл и своих собственных неприятных приключений. Не вникая в глубину этого неспокойного и сложного общества, где боролось столько различных стремлений, где столько идей бродило под покровом страстей и светского легкомыслия, он старался уловить только характерные его черты, те, которые бросались в глаза и выступали рельефно. Затем, рассмотрев их в их связи с политикой, он настойчиво обращает на них внимание императора.
Савари различает в русском обществе при его тогдашнем составе две группы: в первую входят некоторые семьи с прочным положением, с безукоризненной репутацией, с традиционным блеском; другая, более многочисленная и неуравновешенная, представляется нашему наблюдателю толпой разоренных, алчущих роскоши, но не имеющих денег вельмож, которые при денежных затруднениях не всегда считались с требованиями нравственного чувства и по заведенному порядку прибегали к непозволительным средствам.
Такое безденежье объясняется историческим путем. Екатерина II по расчету, Павел – по склонности к деспотизму допустили установление отвратительного обычая, в силу которого государь не только награждал дворянство, но платил ему в строгом смысле этого слова за услуги; он платил ему деньгами, поместьями, людьми. В царствование Екатерины после каждого счастливого похода против Турции происходил между генералами и офицерами раздел завоеванных земель. Россия воевала столько же ради добычи, сколько и ради славы. “В этом отношении мы еще немного азиаты”,– простодушно сказал один из министров. Когда не хватало земель, отнятых от побежденных, Екатерина, чтобы по горло засыпать богатствами тех, которые ей хорошо служили, пользовалась государственными имуществами; ее чрезмерная щедрость вошла в пословицу. Павел, сумасбродный, доходивший во всем до крайности, еще усугубил эту систему: он дарил “три тысячи крестьян, как какой-нибудь перстень”.[200] Русское дворянство, поощренное такой чрезмерной щедростью, стало смотреть на государственную казну, как на неисчерпаемый запас, и дало волю своим расточительным и тщеславным инстинктам. Им овладела бешеная страсть наслаждаться, выезжать в свет, лихорадочное стремление веселиться, и самая молодая столица Европы сделалась самой тщеславной. В конце восемнадцатого века, в те мрачные дни, когда буря революции разразилась над Европой, Петербург остался светлой точкой, куда устремился весь цвет старого общества, где жилось легко, и не думали о завтрашнем дне, где царило гостеприимство, где старались перещеголять друг друга баснословной расточительностью.
Вдруг среди охватившего русское общество вихря удовольствий иссяк источник наживы. Призванный волею судеб на престол, Александр выступил с преобразовательными стремлениями, с честным желанием восстановить государственные финансы, а вместе с тем, покончить и с унизительным обычаем. Он прекратил все награды за счет государственной казны. На просьбы о пособиях отвечал советами быть экономнее. Но толчок был уже дан, привычки были сильнее воли монарха. Дворянство не сумело умерить свой образ жизни, продолжало жить в своих убранных с утонченной роскошью дворцах широко и открыто, среди толпы приживальщиков и прихлебателей; но так как царская щедрость не исправляла уже брешей, которые беспрестанно образовывались в состояниях, то вскоре под этот золоченый внешний блеск прокралось всеобщее безденежье. В 1807 г. Петербург – столица, блестящая по внешности, сделалась городом должников. На этот счет Савари дает характерные подробности. “Я знаю, – говорит он, рассказывая о русских, – нескольких титулованных особ, которые покрыты бриллиантами в дни представлений ко двору, занимают высокие должности в государстве, а между тем булочник нередко отказывается отпустить им хлеба к обеду. В этом отношении здесь увидишь вещи, которых нет нигде. Можно видеть людей с миллионными долгами, которым ничего не остается, как жить по примеру прочих, успокаивать себя этим и даже делать из этого предмет своей гордости. Одна титулованная дама в С.-Петербурге рассказывает, как о чем-то, чему она не придает никакого значения, что у нее полтораста тысяч рублей долгу. Когда ее приглашают на бал и она не может поехать, она обыкновенно извиняется, говоря, что ростовщик не хотел доверить ей бриллиантов на эту ночь. Особенно странно то, что все это нисколько не роняет этих дам в глазах света, так как все они приблизительно в одинаковом положении.
Далее он продолжает, что в этом разорении кроется некоторая опасность и для новой политической системы, и для самого Александра. Английская партия могла так легко возмутить общественное мнение против подписи тильзитского договора только потому, что она обратилась к тем, которые уже давно были недовольны. Среди них многие истощили свои последние средства. Ужас их положения делает их на все готовыми. Революция, которая вновь открыла бы им при новом монархе дорогу к выгодным почестям, является для них средством к спасению. Если явится вождь, достаточно смелый, чтобы вести их на приступ против власти, он найдет в них вполне подготовленных борцов. Савари, хорошо знакомый с нашими авторами, узнает этих корыстных врагов государя в следующих знаменитых стихах:



