
Полная версия:
Дело незалежных дервишей
– Достопочтенный Юй, – продолжал он, изо всех сил стараясь вернуться к реальности, – бывал у нас в позапрошлом году и тогда порадовал ценителей, предложив их вниманию неописуемо вкусные баоцзы. Он готовит настолько же искусно, как и многоуважаемый Семен Семенович Бодоватый, хозяин этого заведения.
– Да вы тут всех знаете! – широко раскрыла глаза Стася.
– Ну, не всех, конечно. – Появилась прислужница, с поклоном расставила на столе четыре плетенки с дымящимися баоцзы и с поклоном же отошла. – Не всех, но многих, драгоценная Стася. Я непременно бываю тут каждый год. Я люблю это место. А баоцзы – моя слабость. Я стараюсь пробовать их всюду, где мне случается побывать, и смело могу сказать, что наш Дворец баоцзы – второй после тяньцзиньского. Даже ханбалыкский Дворец я бы поставил ниже… – Баг отхлебнул пива и взялся за палочки. – Ну что же, приступим?
Он подхватил «Жемчужину дракона» и ловко переправил ее на тарелку Стаси. Придвинул поближе к девушке блюдечко со специальным, оттеняющим вкус «Жемчужины» соусом.
Нет, отвлечься не удавалось. «Переродиться мне опарышем, где я этого хмыря видел? Вот ведь мука… Семь казней египетских, сказал бы еч Богдан!»
– Восхитительно… – поспешно и потому невнятно, с еще набитым ртом сообщила Стася и снова мило потупилась. Торопливо проглотила. – Я такая неловкая…
В другое время Баг искренне обрадовался бы детской непосредственности новой знакомой – именно непосредственности, а не кажущемуся недостатку воспитания: опыт многих расследований и сопутствовавших им деятельно-разыскных мероприятий подсказывал ему, что девушка прекрасно воспитана, но просто очень волнуется, – однако сейчас он с трудом сдерживался, чтобы еще раз не оглянуться. Баг судорожно искал и пока не мог найти в памяти связь между чем-то крайне важным, даже тревожным, и этим смутно ему знакомым лицом, а связь была, определенно была!
– Что вы, Стася, – улыбнулся он, – мы с вами старые друзья, давайте без лишних церемоний, а? – И Баг поднял свою кружку. – А еще, драгоценная Стася… – Навязчивая мысль отвлекла Бага от правил сообразного поведения, и он сказал то, на что в других обстоятельствах решался бы целую седмицу, если не больше. – Драгоценная Стася, что вы думаете, если мы на правах старых друзей станем говорить друг другу «ты»?
Стася даже опустила палочки. Баг увидел в глубине ее глаз что-то такое, от чего на душе у него вдруг стало необыкновенно тепло. Ему нравилось это искреннее смущение, эта манера поднимать брови, этот румянец, вновь явственно проступивший сквозь белила… Стася отвела взгляд.
– Да, – сказала она тихо и зачем-то поднесла палочки к блюдцу с соусом. – Да, – сказала она снова, размазывая соус по краю блюдца. – Я была бы рада. Ты, наверное, думаешь, я легкомысленная? Но мне с тобой так легко, так просто… Может, это неправильно, но я хочу быть с тобою на «ты».
– Стася… – Баг залпом осушил свою кружку и стремительно кинул в рот баоцзы. Прожевал. – Стася. Ты – умница!
Она мило помолчала.
– Знаешь, – сказала она затем, – а по нашим разговорам в чате мне казалось, ты моложе.
– Почему?
– Наверное, потому, – тщательно подбирая слова, пояснила она, – что в делах знакомств я, несмотря на мой юный возраст, ощущаю себя опытнее. Прости, если мои слова показались тебе нетактичными.
Баг чуть пожал плечами.
– Я слишком много времени уделяю своей работе и слишком мало – всему остальному. В своей профессии я столь опытен, что мне можно было бы дать лет сто, – немного неловко пошутил он. – Ну а в среднем получится то, что есть на самом деле.
– А какая у тебя профессия?
Баг снова чуть пожал плечами. Не умел он красоваться, не умел… И эта особенность его суровой натуры всегда в подобных ситуациях Багу крайне мешала. Ни одна вовлеченная в круги перерождений тварь не стесняется распускать перед подругой павлиний хвост, так устроен процесс рождений и смертей, так всем велит их карма, – но вот человек почему-то стесняется порою… Странно.
– Есть такая профессия, Стася, – скромно проговорил Баг, – Родину защищать.
Стася широко раскрыла свои невозможные глаза.
– Но ведь последняя война была очень давно, – недоуменно сказала она. – Да и то между этими… как их… французами и этими… как их… пруссаками. Мы не воевали. Там у них был такой бешеный цзайсян со смешной фамилией… похоже на насморк…
– Бисмарк, – уточнил Баг. – Только у них это называется не цзайсян, а канцлер…
«Или премьер? – сразу засомневался он. – Или госсекретарь?» Он не поручился бы ни за один из этих вариантов. Ну и пес с ними. Поговаривают, что великий аглицкий сыскарь прошлого века по имени Холэмусы[14] не знал даже, что Земля вращается кругом Солнца. И не то чтобы он был птолемианцем и полагал обратное, будто Солнце ходит обапол Земли, – просто подобные вопросы его вообще не беспокоили, ибо не имели отношения к работе. Холэмусы всегда был весьма симпатичен Багу. Судя по целеустремленности, тот был весьма достойным человеком.
– Это истинная правда, но видишь ли, Стася, – от застенчивости несколько более напыщенно, чем сам хотел бы, проговорил Баг, – война за лучшее в человеке против худшего в нем не прерывается никогда. А я как раз боец этого… как бы это поскромнее… невидимого фронта.
– Но разве побеждать в подобной борьбе людям помогают не священнослужители?
– Что тебе сказать… Когда борьба между плохим и хорошим свершается внутри одного человека – тогда да. Когда борьба между плохим и хорошим происходит на границе двух государств – это забота военных. А когда такая борьба происходит между разными людьми, каковые в равной мере являются подданными нашей державы, – вот тогда в дело вступаю я.
Девушка смотрела на Бага восхищенно.
– Я по первым же твоим словам поняла, что ты достоин всяческого уважения, и только от женщины зависит, сумеет ли она выказать его в достаточной мере, – тихо проговорила она, снова заслоняясь веером и тоже явно стесняясь своей откровенности.
Багу вдруг нестерпимо захотелось подойти к ней, взять за руку – такой трогательной показалась ему смущенная Стася – и сказать что-нибудь ласковое, и, быть может, даже коснуться руки губами. И Баг совсем было решился и даже слегка привстал, но тут его озарило: это лицо, это смутно знакомое лицо, это совершенно определенно знакомое лицо он видел на пароме «Святой Евлампий» незадолго до трагического утопления оного в водах Суомского залива. Правда, тогда над сим лицом возвышалась чалма зеленого цвета… И совсем недавно, буквально две седмицы назад, Баг снова видел его – среди фотографических изображений в базе данных родного Управления внешней охраны. Там обладатель лица значился как Мыкола Хикмет, член Братства Незалежных Дервишей, Зикром Встречающих, а еще про него было сказано, что в иерархии Братства он имеет чин поднабольшего незалежника.
«Ну конечно! Как я мог забыть! – подумал Баг. – “Геть, громадяне”… Три Яньло мне в глотку!»
Баг оглянулся. Четверка за столом у лестницы расправилась с баоцзы и теперь расплачивалась с прислужником; каждый старался опередить других, со смехом звеня чохами и шурша лянами.
– Милая Стася, – Баг наклонился над столом, – ты не сердись на меня и не обижайся, пожалуйста, но я вынужден немедленно тебя покинуть.
– Как же… – начала было Стася, в очередной раз очаровательно подняв брови.
– Я знаю, с моей стороны это совершенно несообразно, – продолжал Баг, на несколько мгновений завладев ее рукой. – Но это дело чрезвычайной важности, понимаешь? Мне просто необходимо… – Чувствуя себя самым пренеприятным образом, он выпустил покорную девичью ладонь, встал, добыл из бумажника несколько лянов и, торопливо кинув их на скатерть, придавил палочками. – Я знаю, я порчу тебе прекрасный вечер, и я сам не рад тому, что вынужден вот так уйти, но…
Стася озадаченно глядела на Бага и молчала.
– Я тебе завтра же напишу, – сказал ей Баг и поспешил вослед спускающейся по лестнице подозрительной четверке.
Богдан Рухович
Оуянцев-Сю
Харчевня «Алаверды»,7 день восьмого месяца,первица, вечерСюрприз, накануне обещанный Жанной, оказался печальным. А началось все так славно…
Жанна обещала познакомить Богдана с позавчера приехавшим из Бордо другом ее научного руководителя, французским профессором. «Он – знаменитый в западном мире философ и историк, видный гуманист, член Европарламента, – восторженно рассказывала она. – Зовут его Глюксман Кова-Леви. Мой шеф, узнав, что Глюксман едет в Ордусь, порекомендовал ему связаться со мной, чтобы я помогла на первых порах и как-то ввела в здешнюю жизнь. Ведь я стала такой замечательной специалисткой, говорю совершенно свободно и вообще сделалась будто коренная ордусянка. Правда?» Правда, родная… «Только ты так уж сразу не говори ему, что я твоя младшая жена. Он, наверное, не сможет в одночасье понять здешнего своеобразия. А меня не поймет и подавно, я и сама-то уже не очень себя понимаю. Не скажешь, хорошо?» Хорошо, родная, не скажу… «Я ему немножко помогу адаптироваться, сведу с интересными людьми. Для начала – с тобой».
Если Жанночка хочет познакомить его с членом Европарламента – найдем, о чем поговорить даже с членом Европарламента, так думал Богдан. Странное у профессора имя. Если перевести на ордусский, получится – «человек иллюзий»… Специально это или просто случайно совпало, а те, кто в свое время крестил младенца, имели в виду нечто совсем иное?
Они с Жанной нарочно выбрали самую экзотичную из известных им обоим харчевен. Заказали маринованных трепангов из озера Рица, стейк черноморского катрана и острый горийский салат из капусты с красным перцем, не уступавший по богатству взрывного вкуса лучшим сычуаньским аналогам[15]; когда страстный кулинар-экспериментатор отец Иосиф, отказавшийся ради кулинарии даже от стези священнослужителя, впервые поднес свой салат для дворцовой трапезы, правивший в ту пору дед нынешнего великого князя Боголеп Четвертый, попробовав, долго и проникновенно запивал его всеми напитками, до коих сумел вовремя дотянуться, а потом, с наслаждением причмокнув, восхищенно сказал: «Сей повар будет готовить острые блюда!» – и не ошибся. Гостеприимный Ябан-ага, заранее предупрежденный Богданом, расстарался на славу.
В ожидании профессора Жанночка и Богдан мило болтали о том о сем, но минут за пятнадцать до урочного времени, когда молодица должна была выйти на крылечко – так они с Кова-Леви договорились – и встретить дорогого гостя, она посерьезнела и положила нежные пальчики на руку мужа.
– Я должна тебе кое-что сказать…
Сердце Богдана упало. Если женщина начинает фразу подобным образом, можно ждать чего угодно. И все равно, какую неприятность ни жди – окажется, что следовало ждать втрое худшую.
– Я слушаю, – ответил Богдан.
– Ты только не пойми меня так, что я хочу с тобой расстаться. Наоборот. Из трех месяцев нашего брака прошло чуть ли не полтора, и… – Она осеклась, потом перевела дыхание. В последние дни ее все пуще грызла злая обида на Богдана за этот трехмесячный срок – какая разница, что он был назначен из-за нее же самой, ведь именно Жанна сказала: через три месяца ей возвращаться в Сорбонну. Но почему Богдан до сих пор не предложил ей… как у них тут это делается? Хотя бы продлить! Она бы, конечно, еще десять раз подумала и, конечно, попросила бы отложить подобные разговоры до возвращения Фирузе, обсуждать будущее семьи в отсутствие старшей жены нечестно, но почему он ей не предложил? Он совсем ее не любит!
«Ну ладно, – подумала она, поняв, что муж не нарушит молчания. Спокойный такой, ровный и прохладный, будто она у него не вторая, а двадцать вторая. – Тогда так тому и быть».
– Кова-Леви приехал в Ордусь с важной научной целью, – проговорила она. – Он обнаружил в одной из старых монастырских библиотек обрывки свитка с указанием на то, что где-то у нас…
Она вспыхнула, поняв, что, сама того не желая, проговорилась, «у нас» сказала. Сказала явно об Ордуси. Богдан благоговейно обмер, не в силах поверить. Но Жанна, отведя взгляд, с независимым видом поправилась:
– …У вас, где-то в провинции, он может найти подтверждение своей старой гипотезе. Сегодня, я надеюсь, он объяснит подробнее. Но Кова-Леви хочет, чтобы туда, в вашу глубинку, я поехала вместе с ним. Он прекрасно знает старославянский язык, но говорить на современном почти не может и совсем не ориентируется в здешней жизни! Это продлится не более трех дней. Он сам вовсе не жаждет здесь задерживаться, слишком милы ему привычные условия, европейские, но в то же время он фанатик истины… – Она сделала паузу. Подождала.
Богдан, понимая, к чему клонится дело, подавленно молчал.
– Ты отпустишь меня на три дня? – спросила Жанна. В ее голосе прозвучал вызов.
Стало тихо. Лишь приглушенные звуки пипы[16], медленно, с невыразимой печалью наигрывавшей лезгинку, мягко лились из стилизованных под сидящих львов колонок, подчеркивая тишину.
Богдан тяжело вздохнул. Поправил очки.
– Конечно, отпущу, – сказал он. И добавил после паузы: – Но мне будет нехватать тебя.
Богдан помолчал, собираясь с мыслями. Удар был слишком внезапным. Но следовало принять его мужественно и не огорчать Жанну изъявлением своей скорби – ведь она все равно должна ехать, ей для дела нужно. И он принужденно улыбнулся:
– Как я буду без твоего лукового супа…
«Вот и все, что его волнует!» – с горечью подумала Жанна. У нее едва слезы не навернулись на глаза. Но показать свою боль было нельзя. Она громко засмеялась.
– Пока ты был в Управлении, я сготовила тебе во-от такую кастрюлю! Самую большую, какая нашлась в доме!
Богдан через силу ответил ей в тон:
– Ну, тогда три дня я как-нибудь стерплю.
Помедлив мгновение, Жанна вскочила и торопливо прошла к выходу из харчевни, потом поднялась по крутым ступенькам и исчезла снаружи – только жалобно прозвенели колокольцы над дверью; точь-в-точь как в тот вечер, когда заведение Ябан-аги осчастливила тайным посещением принцесса Чжу.
Ябан-ага перегнулся через стойку и негромко, понимающе спросил:
– Подавать?
– Когда войдут, – ответил Богдан.
Они вошли.
«Человек иллюзий» был человек как человек: слегка вытянутое лицо, слегка оттопыренные уши, очки на пол-лица. Средних лет, но вполне подтянутый и моложавый; и очень галантный. Конечно, и по одежде, и по манерам сразу читался в нем гокэ, но взгляд у него был доброжелательный, улыбка вполне естественная, костюм отнюдь не вычурный. Он с удовольствием ворковал с Жанной на их по-своему красивом наречии, и она ему с радостью отвечала; и Богдан со смутным чувством не столько ревности, сколько невосполнимой утраты осознал, что не понимает практически ни слова. А Жанне встретить соотечественника и говорить на родном ей с детства языке, похоже, до смерти приятно; и всегда будет так.
Впрочем, разве бывает иначе? Разумно ли обижаться на ребенка, который свою маму любит больше, нежели чужую? Это нормально; вот если бы оказалось наоборот, детские психологи наверняка пришли бы в ужас. Ведь еще наш Учитель Конфуций говорил: «Всякий феникс славит ветви того утуна[17], на коем свил гнездо». Разве можно обижаться на человека, которому родной язык милее и слаще чужого? Подобная обида не менее несообразна, как если бы младшая жена вдруг принялась ревновать мужа к старшей…
«Жанна уедет насовсем», – подумал Богдан, церемонно вставая.
Они обменялись с мсье Кова-Леви вполне дружелюбным европейским рукопожатием. Поджарый француз приветливо улыбнулся. Потом кинул любопытный взгляд на неизменно пребывающего в харчевне йога Алексея Гарудина и на стоящую перед ним кружку с пивом, но ничего не сказал.
– Профессор говорит, что очень рад познакомиться с моим другом, о коем он слышал столько лестного, – перевела Жанна, – и выражает восхищение той истинно ордусской атмосферой, которую сразу ощутил в этом заведении. Оно очень напоминает ему средневековый пиратский кабак где-нибудь на Антильских островах.
«Почему, собственно, пиратский?» – недоуменно подумал Богдан и невольно скосил глаза на Ябан-агу: слышал ли. Тот явно слышал, потому что его приветливая улыбка сразу сделалась слегка примороженной. Впрочем, что взять с варвара… Надо было отвечать. Ай люли, да трежули, вспомнилось Богдану, и он, светски шевельнув пальцами, произнес:
– Се тре жоли.
Жанна подарила Богдану восхищенный взгляд, а затем гордо стрельнула глазами на француза: вот какой мужчина здесь у меня! Кова-Леви одобрительно закивал Богдану: мол, понял. И они расселись. Ябан-ага с каменным лицом открыл специально припасенную бутыль «ихнего бордо» и разлил кислятину по бокалам, а затем принес первую перемену.
Постепенно раскручивалось бойко жужжащее веретено ученой беседы. Жанна переводила; она была возбуждена и оживлена сверх меры, глаза ее сверкали, лицо раскраснелось оттого, что она, как ни крути, находилась сейчас в центре внимания двух очень разных, но в равной степени чрезвычайно лестных ей мужчин. Один – любимый, другой – едва ли не боготворимый. Один – восхитительно чуждый и экзотичный, зато муж, уже знакомый каждой интонацией голоса и каждой клеточкой кожи; другой совершенно свой, но великий и недосягаемо парящий в горних высях. И она необходима обоим. Они без нее как без рук. Время от времени в потугах беспредельной вежливости и уважительности Богдан, конечно, старался изобразить что-нибудь наподобие «Жё с трудом понимаю вотре структюр сосьяль!»; французский гуманист, который, как видно, в отличие от вежливого Богдана все понимал, в ответ рубил сплеча: «Лё тоталитарсм ордусьен э не совсем бьян!» Но без Жанны они, конечно, даже пары связных фраз друг другу бы не сказали. И, сознавая это, Жанна была особенно раскованна и прекрасна.
Постепенно разговор зашел и о предмете нынешних изысканий Кова-Леви. Гокэ совсем разгорячился и, единым махом опорожнив второй бокал, принялся бурно жестикулировать. Жанна явно произвела на профессора впечатление, и он, вероятно и непроизвольно, но совершенно явственно, принялся распускать павлиний хвост. Жанна старалась переводить синхронно, но все чаще не поспевала за полетом руки и мысли ученого, запиналась, вслушивалась, а потом излагала, по всей видимости, краткие выжимки из стремительных речей возбужденного фанатика истины.
– Он говорит, что несколько месяцев назад в маленьком монастыре на западе Бретани – у тамошних настоятелей давние связи с польской диаспорой… ты знаешь, что значит «диаспора»?
Кова-Леви стремительно развивал свою мысль. «О ла-ла! Жё круа, лё текст ансьен де Коперни'кь…»
– Вроде хуацяо[18], знаю.
– Хуацяо? Ну, неважно… Он обнаружил документ. Обрывок, буквально несколько строк, и короткое письмо. Донесение иезуита в орден. Кова-Леви говорит, что никто, кроме него, просто не понял бы эпохального значения этого обрывка. А дело в том, что он давно занимается творческим наследием… э-э… великого сына… э-э… асланского народа Опанаса Кумгана, старшего однокашника Николая Коперника по Краковскому… университэ… э-э-э… великому училищу. Асланский гений…
– Асланiвський, – не выдержав, поправил Богдан, когда Жанна ошиблась во второй раз. – Есть такой уезд в нашем улусе. А Опанас Кумган – и правда замечательный ученый, настоящий, как они бы на Западе сказали, человек Ренессанса, полиглот. В первой половине шестнадцатого века он много занимался, в частности, естественным правом…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Как известно, дошедшие до нас списки «Лунь юя» («Суждений и бесед») насчитывают двадцать глав. Двадцать вторая глава, представлявшая собою, по свидетельству некоторых древних комментаторов, квинтэссенцию конфуцианской мудрости и написанная Учителем собственноручно за несколько месяцев до кончины, считалась утерянной еще во времена царствования Цинь Ши-хуанди (221–209 гг. до н. э.), во время его знаменитых гонений на конфуцианскую ученость и культуру. Однако мы не исключаем, что в руки столь пытливого исследователя и неистового коллекционера, каким был Х. ван Зайчик, каким-то образом мог попасть текст драгоценной главы. –Здесь и далее прим. переводчиков.
2
На протяжении многих веков всех иностранцев в Ордуси, следуя древней китайской традиции, называли варварами. В последние десятилетия, избегая употреблять этот не вполне корректно звучащий термин, людей, по тем или иным причинам приезжающих в Ордусь из-за границы, именуютгокэ, то есть «гостями страны»

3
Род китайских паровых пельменей, довольно близкий к среднеазиатским мантам.
4
Этим словом мы передаем китайское «сяньшэн»

5
Описанное Х. ван Зайчиком государство в целом официально именовалось Цветущей Ордусью (по-китайски – Хуася Оуэрдусы
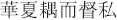

6
Яньло, или князь Яньло (Яньло-ван) – владыка загробного мира в пантеоне богов китайского простонародного буддизма.
7
Бодхисаттва Гуаньинь (Авалокитешвара) – божество милосердия в пантеоне богов китайского простонародного буддизма.
8
Данные события подробно описаны в повести Х. ван Зайчика «Дело жадного варвара». Упоминаемая далее Мэй-ли, она же – принцесса Чжу, является одним из основных персонажей этого произведения, сюжетно открывающего грандиозную эпопею великого еврокитайского гуманиста.
9
Как разъясняется в других произведениях Х. ван Зайчика, при неофициальном общении многие ордусяне, особенно работники оборонных и человекоохранительных структур, да и просто те, кто постоянно и сильно занят, обычно сокращали общепринятые обращения одного человека к другому до возможного минимума. Возьмем, например, безупречно вежливое ордусское обращение низшего к высшему – «драгоценный преждерожденный единочаятель такой-то». В деловой обстановке, особенно если разница в чинах не слишком велика, оно обязательно окажется редуцировано до «драг прер еч». Основным же и наиболее общим обращением ордусян друг к другу является слово «единочаятель» – в подлиннике ван Зайчика: «тунчжи»

10
Название высшей юридической ученой степени Ордуси – «минфа»

11
Имеется в виду младшая жена Богдана Руховича – юная исследовательница ордославянской культуры, приехавшая из Сорбонны в трехмесячную командировку и вступившая с минфа во временный брак на этот срок. Романтичная история их знакомства описана в «Деле жадного варвара».

