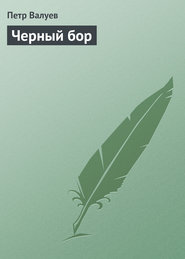 Полная версия
Полная версияЧерный бор
– Мама́ часто страдает сильными головными болями, и вообще, ее здоровье в нынешнее лето еще более пошатнулось.
– Я и на ваш счет, Вера Степановна, позволил себе несколько тревожиться. В прошлый раз вы были сами или не совсем здоровы, или чем-нибудь озабочены.
– Весьма любезно, что вы обо мне подумали, но я, благодаря Бога, здорова.
– Я слышал, что вы теперь одни. Степан Петрович уехал…
– Да, папа́ должен был на короткое время поехать в Белорецк.
– Надеюсь, что Анне Федоровне можно будет сегодня выйти на воздух, на ее балкон. Погода великолепная.
– У мама́ даже и в спальне окно отворено.
– Вера Степановна! – вдруг сказал Печерин, – вспомните наш разговор у Суздальцевых. Вы тогда со мной соглашались. Согласитесь ли вы сегодня?
Вера улыбнулась, но невеселой улыбкой, и спросила:
– В чем согласиться? Не знаю, тот ли разговор я припоминаю, о котором вы упомянули.
– Речь шла о светских разговорах вообще, и вы признавали, что в них тратится много слов, чтобы ничего не сказать или не сказать прямо и просто то, о чем думается.
– Это я помню.
– Что же делаем мы теперь с вами? Мне кажется, мы ведем городской разговор. Я вам тогда признался, что деревня на меня произвела неожиданное действие и сделала как бы другим человеком. Теперь я постоянно порываюсь прямо высказывать, что на сердце приходит. Сегодня я в этом настроении сюда приехал или, точнее, пришел, потому что мне как-то неприятно было вкатиться на ваш двор при топоте лошадей и стуке колес. Я встревожен на ваш счет и насчет вашей матушки. Мне хотелось вам это сказать и взглянуть на вас, потому что на вашем лице, я уверен, прочту ответ, который вы, быть может, не дадите на словах.
– Искренне благодарю вас за участие, – тихо сказала Вера, – но я могу отвечать и на словах. Я уверена, что вы не поставите мне вопроса, на который мне не следовало бы давать ответа.
– Никакого вопроса я не могу ставить, – продолжал Печерин. – Я просто хотел сказать, что я давно вижу, что вы и ваша матушка чем-то озабочены или опечалены, и что, как добрый сосед, сердечно благодарный за приветливое ко мне внимание, я себе позволяю также быть озабоченным или опечаленным. Быть может, не совсем ясно или несвязно то, что я говорю, но оно искренне. Ваша матушка себе завоевала мое сердце. Вы себе представить не можете, как я ее почитаю и как ей от души предан. Она – олицетворенная кротость, а это свойство меня всегда трогало и подчиняло. Оно было свойством моей покойной матери.
Вера протянула руку Печерину и взволнованным голосом сказала:
– Хотя вы и недавно стали нашим соседом, мама́ и мы все успели к вам привыкнуть и убедиться в ваших добрых к нам чувствах. Насчет мама́ вы совершенно правы. Ее нельзя не любить. Ее любят все, кто ее знает…
– Вера! – послышался из соседней комнаты голос Анны Федоровны.
– Мама́ зовет, – торопливо сказала Вера, вставая. – Борис Алексеевич, пройдемте в ее кабинет.
В это самое время происходило в Белорецке другого рода объяснение между Степаном Петровичем Сербиным и членом губернской земской управы Антоном Ивановичем Болотиным.
– Поверьте, – говорил Болотин, – что для вас будет лучше бросить все такие заботы о Прасковье Семеновне.
– Не в моих привычках бросать то, за что я взялся, – отвечал Сербин. – Но вы чего-то не договариваете или выражаетесь двусмысленно. Скажите прямо: в чем дело? Почему неудобно для меня заботиться об интересах бедной или почти бедной родственницы, которая во мне одном имеет опору?
– Не в вас одном, Степан Петрович. У нее есть тетка. Быть может, и еще кое-кто найдется. А для вас – если вы требуете, чтобы я без обиняков высказался, то я выскажусь, – для вас неудобно это потому, что и помимо этого много ходит толков о ваших отношениях к Прасковье Семеновне.
– Какие толки? Что можно говорить о моих к ней отношениях?
– Степан Петрович, вы человек опытный, бывалый, вы знаете свет. Неужели вы думаете, что потому только, что вы молчите и другие молчат?
– Я молчу потому, что нет ничего, о чем можно бы говорить. Если же другие говорят – то все это злые басни и сплетни.
– Согласен и на то, что басни и сплетни. Они все-таки очень распространены, и ваши недоброжелатели их выдают прямо за истину. Внезапное возвращение Прасковьи Семеновны, а затем и ваш приезд – оживили эти толки.
– Мой приезд? Вы знаете, что я приехал по делу Пичугина, по его просьбе.
– Да, но оно решено, а вы еще здесь и все бываете у Прасковьи Семеновны. Неужели вы воображаете, что этого не подмечают?
– Еще бы не бывать. Город пуст, некому подмечать, а мне незачем прятаться.
– Положим, что город пуст, но языки в нем остались, и чем менее им дела на других улицах, тем усерднее они работают на вашей. Да и предмет не новый. И преосвященный о нем знает, и до Москвы давно дошли слухи. Один из наших влиятельных приятелей оттуда уже во второй раз меня спрашивает, много ли в них правды. Теперь удобно показать, что толки были пустые. Прасковья Семеновна здесь; вы вернетесь в Васильевское; а там, до осени, успеют заговорить о чем-либо другом или о ком-либо другом, помимо вас.
Лицо Сербина нахмурилось. Он молчал и смотрел в растворенное окно.
– Поверьте мне, Степан Петрович, – повторил Болотин, – бросьте ваши хлопоты за Прасковью Семеновну. Недаром была осечка на Черном Бору. Вообще, вы здесь не найдете ничего подходящего; а поиски, о которых сама Прасковья Семеновна проговаривается, и болтливость ее глупой тетки дают пищу толкам.
– А какая может быть у нее другая опора? – вдруг спросил Сербин.
– Разве и это для вас неожиданность? – отвечал Болотин. – Вы с этой опорой сами встречаетесь у Прасковьи Семеновны.
– Не понимаю вас. Я ни с кем у нее не встречаюсь.
– По крайней мере, могли бы встретиться. Припомните, что прошлой зимой вы здесь видели молодого помещика, родственника нашего вице-губернатора. Он был студентом во времена покойного профессора, ее мужа, и с тех пор Прасковья Семеновна его знает. Он человек зажиточный, недалекого ума, тщеславный, податливый, и Прасковья Семеновна, кажется, умела его записать в свои поклонники.
– Подгорельский? – сказал Степан Петрович. – Не может быть. Он гораздо моложе ее.
– Так что же? Это не мешает. Примеры бывали. Он весной сюда вернулся и до вашего выезда в Васильевское бывал у Прасковьи Семеновны.
– Не может быть, – повторил Сербин. – Она никогда о нем не упоминает.
– Однако с ним переписываться может.
– И этому не верю.
– Не верьте, если не хотите верить. Положительно то, что еще недавно она от него письмо получила.
– Как могли вы узнать о том?
– Весьма просто: мы с ним встретились на почте, и письмо было при мне подано.
Степан Петрович призадумался, стал с явным беспокойством ходить по комнате, потом остановился и с притворным равнодушием сказал:
– Впрочем, я не имел надобности караулить знакомых Прасковьи Семеновны. Подгорельский мог и бывать у нее, как бывали другие. До свидания, Антон Иванович. Завтра в эту же пору зайду к вам, и мы договоримся.
Сербин вышел. Болотин смотрел вслед ему и произнес вслух:
– Знаю, куда вы теперь спешите, Степан Петрович. Вы, человек стародавних, строгих нравов, торопитесь допросить вашу любезную Прасковью Семеновну. Вы, человек правды, только что помогли Пичугину в неправом деле. Вы злоупотребляете моими силами и уменьем, потому что я ваш должник. Если бы не мои несчастные долги, я бы с вами давно развязался!..
VIIIВремя и пространство – понятия довольно условные; недаром философы полагают, что на деле совсем даже не существует ни пространства, ни времени, это только прирожденные нам формы мышления, и наш ум изобрел идею пространства для объяснения конкретности предметов, а идею времени – для объяснения последовательного порядка явлений и событий. Но тем не менее, для нас обе эти идеи сопровождаются каким-то признанием несомненной их действительности. Против них наша воля бессильна, и упразднить их мы не можем; свойства признания бывают, однако, различны. Относительно пространства от нас зависит сокращать размеры его представления. Мы можем думать о какой-нибудь части пространства или даже вовсе о нем не думать. Оно для нас неподвижно и неизменно. Напротив того, время относительно нас находится в безостановочном, непрерывном движении. Мы можем и о нем не думать и его движения не подмечать непрерывно, но последовательный ход явлений совершается помимо того, наблюдаем ли мы за ним или нет. Всегда наступает минута, когда мы сознаем, что движение времени совершилось…
Давно уже минул срок, до которого Печерин первоначально имел намерение оставаться в Черном Боре, и он давно начал тяготиться своим одиночеством. На словах и на бумаге может преобладать идиллическая сторона сельского уединения. Но на деле для того, чтобы легко жилось в деревне, нужен семейный очаг или нужны занятия, которые поглощали бы значительную часть дня и досугу придавали все приятные свойства отдохновения. У дилетанта-хозяина, каким был Печерин, таких занятий и быть не могло. Между тем август наступил, дни стали короче, ненастье повторялось чаще, по хозяйству не было новых занятий; даже закончилось предпринятое Печериным, за неимением другого дела, устройство части дома, предназначенной им для гостей и состоявшей из ряда комнат в верхнем этаже, на стороне, противоположной часовне. Но никаких гостей не было, и одинокий хозяин чувствовал себя отшельником в переустроенном им доме. Он по-прежнему ездил в Липки и особенно часто посещал Васильевское; но по возвращении в Черный Бор сознание одиночества восстановлялось с большей силой и в поздние вечерние часы нередко переходило в ощущение хотя и добровольного, но мучительного одиночного заключения.
Что же могло удерживать Печерина в Черном Боре и даже заставляло его отписываться, для объяснения причин замедляющегося возвращения в Петербург и отъезда оттуда по службе в Париж? Печерин и себе самому ставил этот вопрос, и всегда чистосердечно сознавал, что ответом на него была Вера Сербина.
Любил ли Печерин Веру? Нет, он только полюбил ее. Это известный оттенок чувства, менее интенсивного и менее исключительного, которое не всегда даже переходит на высшую степень полной исключительности и интенсивности. Анна Федоровна и ее дочь Вера с первой встречи были симпатичны Печерину, а потом возбудили в нем живое к себе участие. При отсутствии других отвлекающих впечатлений эти чувства легко могли развиться и упрочиться. Вера нравилась Печерину, и он с удовольствием замечал, что и его присутствие ей было приятно; она к нему, видимо, относилась с простодушным доверием. Но отец ее, Степан Петрович, производил на него отталкивающее впечатление, и это впечатление было охлаждающей струей, постоянно напоминавшей ему о Париже. Печерин знал, что в конце концов он уедет, уедет надолго, и что Васильевское канет для него в ту область прошлого, где более или менее скоро бледнеют все краски настоящего. Почему же он медлил отъездом? Ему просто было жаль расстаться с настоящим, и он уступал этому сожалению со дня на день, под влиянием свойственной ему впечатлительности и привычного равнодушия к своим официальным отношениям. Он несколько раз, однако, спрашивал себя: хорошо ли он поступает в отношении Веры? Но на такие вопросы отвечала та, почти вся неискренняя, скромность, которая позволяет человеку не считать себя опасным для чужого сердца. Впрочем, Печерин дополнительно успокаивал себя еще тем, что он не ухаживал за Верой в обычном смысле этого слова, ничего ей не сказал, что могло бы сколько-нибудь связать свободу его действий в будущем, и если раз или два говорил о взаимности чувств, то говорил только о дружбе; он как будто не знал, что значит – говорить о дружбе; когда одному из собеседников еще не минуло тридцати лет, а другой только что исполнилось девятнадцать.
Печерин засиделся как-то вечером у Суздальцевых. Там долго рассуждали о пожаре, от которого за несколько дней перед тем сгорела усадьба помещика Пичугина. Дело случилось в бурную ночь и приписывалось поджогу. Подозревали двух сыновей высланного в другую губернию, по домогательству Пичугина, крестьянина из соседней деревни, и в особенности одного из них, который был известен в околотке как сорвиголова, хотя до той поры ни в каких преступных действиях не был замечен. Но подозрение опровергалось тем, что именно этот сын провожал отца до места высылки и был на обратном пути в Белорецке в ту самую ночь, когда случился пожар. О его брате также было доказано, что он в ту ночь находился в другой местности. Могли быть сообщники, но их следов напрасно доискивались.
Прощаясь с Печериным, Мария Ивановна Суздальцева отвела его несколько в сторону и спросила, давно ли он был в Васильевском.
– Вчера, – отвечал Печерин.
– А когда полагаете опять там быть?
– Не знаю… быть может, и завтра… Пользуюсь тем, что Сербин опять в Белорецке.
– Понимаю… Впрочем, он действительно неприятен… Не забывайте, однако, Борис Алексеевич, того, что я вам намедни говорила. Не сетуйте на меня и подумайте о Вере. Я люблю ее и за нее опасаюсь. Vous lui montez la tête. По-русски нет точного выражения для моей мысли. «Вскружить голову» – не совсем то. Голова Веры не вскружится. Но вы, тем не менее, вводите ее в заблуждение насчет ваших, может быть, и насчет ее собственных чувств. Хорошо ли это?
– Поверьте, Мария Ивановна, я осторожен, никого не ввожу в заблуждение и никакого недоразумения не допущу. Нельзя же мне запереться в Черном Боре, когда Васильевское в четырех верстах!
– Да, но Париж не в четырех верстах. Вы мне позволили с вами всегда быть откровенной. Вам Вера просто нравится.
– И я буду откровенен: она симпатична, и мне очень жаль ее.
– Вы мне это уже в третий раз повторяете. Вам давно жаль. Но надолго ли будет жаль, после того как вы уедете? Притом жаль, жаль – вы сами знаете, что это слово или неточно, или для Веры, быть может, хуже, чем неточно. Она не дорожит сожалением. Напрасно я ранее о том не подумала…
– Нельзя не жалеть, когда видишь ее и ее бедную мать.
– Все это так; но чем дальше, тем больше может быть жаль.
– Вы меня решительно высылаете из Черного Бора? – сказал Печерин после минутного молчания.
– Нет, я только призываю себе на помощь ваше сердце. Еще одно слово. Вы, кажется, по-прежнему дорожите памятью покойной Марьи Михайловны; отдаю Веру под ее защиту.
Печерин молчал.
– Вы, надеюсь, на меня не сердитесь, – продолжала Мария Ивановна и протянула руку Печерину.
Он поцеловал руку и молча вышел.
На обратном пути в Черный Бор Печерин постоянно вспоминал о последних словах г-жи Суздальцевой. Они звучали упреком, но его совесть упреку не вторила. Странно, – говорил сам себе Печерин, – что человек может в таком положении быть без вины виноватым. Вправе ли я воображать, даже не смешно ли воображать, что я так легко побеждаю сердца, и потому только, что я часто бываю в Васильевском и охотно вижу Веру, а на безлюдье и ей, может быть, приятно меня видеть? Она, впрочем, знает, что я должен уехать, и мы часто говорим о том. Разве нет возможности дружелюбно относиться к молодой девушке, не имея в кармане готового патента на звание жениха? Если бы я здесь оставался, то дело имело бы совсем другой вид. И кто знает, что может случиться со временем? Быть может, я и развяжусь с Парижем. Во всяком случае, однако, не для того, чтобы часто видеться с Сербиным…
Между тем погода хмурилась. Черные тучи набегали одна за другой и, наконец, совершенно застлали собой небо. Поднялся сильный ветер. Конец пути пролегал вдоль бора, который глухо гудел, подобно шуму морского прибоя. Печерин стал нетерпеливо смотреть вперед, ожидая, не покажутся ли огоньки села. Наконец огоньки показались. Еще несколько минут – и он был дома.
На этот раз, в темную бурную ночь, черноборский дом показался Печерину еще более пустынным, чем прежде. Когда он остался один в своем кабинете, все в доме замолкло, и слышны были только завывание ветра, шум колеблемых им ближних дерев и жалобное дрожание стекол в окнах; ощущение мятежной тоски овладело Печериным, и в его мыслях решительно сказалось: «Пора уехать!» Он пытался читать, но ему не читалось, и он бросил книгу. Образ Веры упорно восставал перед ним, и последний разговор в Липках снова пришел ему на память. «Быть может, – думал он, – Вера действительно объясняет себе мои отношения к ней каким-то чувством жалости, которое ее должно огорчать». Он стал припоминать частности последних с ней свиданий и в них находить следы или признаки грустного недоверия. «Необходимо объясниться», – подумал он, и затем само собой опять повторилось: «Пора уехать!»
Сон не смыкал глаз Печерина. Он невольно продолжал слушать шум бури и думать о Вере. Вдруг ему показалось, что и в доме было движение. Он прислушался. Оно затихло, потом возобновилось, усилилось. К Печерину торопливо вошел его старый камердинер.
– Пожар, Борис Алексеевич, – сказал он, – пожар!
– Где? Какой пожар? – тревожно спросил Печерин.
– В Васильевском. Господский дом горит.
– Не может быть! Скорее давай одеваться!
– Дом горит, – отрывисто продолжал камердинер. – Оттуда прискакал верховой, просит нашей трубы. До нас уже прежде доносился гул набата. Для вас закладывают троечные дрожки. Кондратий говорил, что вы непременно поедете, а сам уехал при трубе. Зарево видно и становится сильнее.
Печерин бросился к окну. По направлению к Васильевскому действительно светилась та зловещая ярко-багровая полоса отраженного на темных тучах пламени пожара.
Сборы Печерина были непродолжительны. За пересекавшей дорогу ясеневой рощей ему уже стали видны клубы огненного дыма, под которыми пробегали, как при быстрой езде казалось, черные очерки дерев. По обеим сторонам пути местами виделись группы людей, спешивших на пожарище через луг и поле. Приближаясь к Васильевскому, Печерин заметил, что в кустах, на берегу речки, неподвижно стоял кто-то и смотрел на огонь. Печерин оглянулся, но никого уже не было видно. Миновав село, кучер сдержал лошадей и наконец остановился. Толпа народа затрудняла проезд. Печерин соскочил с дрожек; в толпе его тотчас узнали, дали ему дорогу, и у ворот усадебного дома он увидел поджидавшего его Кондратия.
– Где Вера Степановна и Анна Федоровна? – спросил Печерин.
– Анна Федоровна у отца Пимена, – отвечал Кондратий. – Вера Степановна здесь, на пожаре; Василиса с нею.
IXКто видел пожар в деревне, тому известно, что это бедствие представляет там еще более ужасающие черты, чем в наших столицах, где есть нечто сколько-нибудь успокаивающее, ввиду стройности борьбы с огненной стихией; участники такой борьбы в городах – люди умелые; объединяющая власть распоряжается их частными усилиями. Есть также зрители, но они безгласны в деле. Вообще, в городе чувствуется, что помощь близка, сильна и даже после пожара она останется, хотя и в другом виде, более или менее доступной пострадавшим. В деревне общее впечатление есть впечатление жалобной, но шумной и бестолковой неурядицы. В борьбе с огнем нет ни единства, ни предусмотрительности. Плачевный вопль посторонних женщин сливается с праздными пересудами и криками беспомощных крестьян, а ночью вокруг всей области зловещего света пожара разостлан пустынный сельский мрак, напоминающий о том, как далека всякая человеческая помощь.
На этот раз в Васильевском было не менее шума, но менее беспорядочной суеты. Действовали две местные пожарные трубы и черноборская. Распоряжался, насколько слушались посторонние, человек рассудительный, доверенный конторщик Сербина; но в подаче и подвозе воды из близкого пруда был явный недостаток. Неожиданное обстоятельство между тем оказало существенную пользу. Пожар начался с подветренной стороны, в строении, где помещалась кухня, и перешел на дом по крытой галерее, соединявшей его с тем строением. Порывистый ветер вдруг переменил направление и с прежней силой погнал искры и пламя прочь от дома, в котором загорелась только та часть его, где находились комнаты, занимаемые самим Сербиным. Другая часть, более обширная, где были комнаты Анны Федоровны и Веры, оставалась нетронутой огнем. Печерин с первого взгляда убедился в необходимости сосредоточить все усилия тушения на этом наветренном пределе огня; тотчас приказал Кондратию направить туда действие черноборской трубы, а между тем глазами искал Веру и увидел ее под одним из стоявших против окон Анны Федоровны дерев. Подле нее было несколько женщин; за ними, в нескольких шагах, смешанная толпа крестьян, а впереди, на луговине перед домом, вынесенная из дома и кучами разбросанная домашняя утварь. Печерин бросился к Вере.
– Вера Степановна, вам нельзя здесь оставаться в эту бурю. Позвольте мне вас отвести к вашей матушке, а я вернусь – и, поверьте, постараюсь сделать все, что возможно. Половину дома еще можно отстоять.
– Я недавно была у мама́, – отвечала Вера. – Она меня просила посмотреть, спасены ли некоторые вещи, которыми она особенно дорожит.
– Прикажите мне, что вам угодно, но не оставайтесь. Я сейчас распоряжусь, а потом вас отведу.
Печерин обратился к толпе и громко крикнул:
– Кто здесь из Черного Бора? Выходите вперед!
– Мы здесь, – послышалось несколько голосов, и человек до двадцати тотчас выдвинулись из толпы.
– Хотите мне помочь? – спросил Печерин.
– Всей душой рады, Борис Алексеевич, приказывайте.
– Станьте же в ряд… Хорошо. Берите ведра; Кондратий вас поведет к пруду и поставит для передачи воды. Кто ведра не достанет – иди ко мне.
– Полагаетесь ли вы на ваших крестьян? – вполголоса спросил Печерин, обращаясь к Вере.
– Думаю, что можно положиться. Они любят мама́.
– Кто васильевские? – крикнул Печерин. – Кто хочет помочь, выходи!
– Все хотим помочь, – отвечали из толпы, и опять выделилось около двадцати человек.
– Анна Федоровна и Вера Степановна просят вас оберегать все, что из дома вынесено.
– Будем хранить, охотно будем!..
– Станьте же вокруг. Чужих в круг не пускайте. Кто из вас старший?
– Староста Кузьма, – раздалось в толпе, – выходи!
– Теперь сами попросите Кузьму поставить круг, – сказал Печерин Вере.
Вера исполнила его желание, и васильевцы двинулись за Кузьмой.
В критические минуты массы чутко познают авторитет разумной воли и охотно ему поддаются. Вера могла заметить, что с первых слов Печерина он стал общепризнанной властью. В это время к нему подошел и распоряжавшийся на пожаре конторщик, а с другой стороны показалась подъезжавшая четвертая труба, высланная Суздальцевым из Липок.
– Иван Фомич, – сказал Печерин конторщику, – позвольте мне вам прийти на помощь. Я отведу Веру Степановну к ее матушке и к вам вернусь. Мне только хотелось бы с вами наперед условиться насчет действия труб.
Печерин отвел конторщика в сторону и, вполголоса переговорив с ним, возвратился к Вере.
– Доверяете ли вы Ивану Фомичу? – спросил Печерин и, получив утвердительный ответ, громко продолжал: – Теперь не откажитесь идти со мной. Я вас доведу до дома отца Пимена и постараюсь, по крайней мере, тем успокоить Анну Федоровну, что мы оба надеемся отстоять остальную часть дома. Ваши женщины пусть здесь остаются, а когда Кондратий придет с пруда, Василиса может ему сказать, чтобы он меня здесь же дождался.
– Скажу, скажу, Борис Алексеевич, – отозвалась Василиса.
Вера ничего не отвечала и как будто машинально повиновалась, когда Печерин взял ее под руку и с ней направился к церкви, близ которой находился дом священника. Васильевская церковь отстояла от усадьбы не более как на двести с чем-нибудь шагов, и по обеим сторонам ведущей к ней дорожки виднелись освещенные пламенем кучки крестьян; из их среды Печерин несколько раз слышал сочувственные слова: «Голубушка Вера Степановна!» Между тем он успел узнать от Веры, что к Степану Петровичу послан нарочный, что пожар приписывался поджогу, что если бы не сильный ветер, то огонь не перешел бы на дом, потому что своевременно разломали галерею, и что все, что можно было наскоро вынести из дома, из него вынесено. Остальную движимость, как сам Печерин видел, продолжали торопливо выносить.
Печерин вкратце сообщил Анне Федоровне успокоительные сведения о ходе пожара, торопливо переговорил с отцом Пименом и уходя сказал проводившей его Вере:
– Теперь вам следует озаботиться попечением о здоровье вашей матушки. Ей здесь оставаться нельзя. Ваш дом, во всяком случае на несколько дней, необитаем. Иван Фомич сказал мне, что Анна Федоровна не хочет занимать павильона или дома за павильоном, по ту сторону сада. Других удобных помещений нет. Уговорите вашу матушку тотчас переехать в Черный Бор, по крайней мере до приезда Степана Петровича.
– В Черный Бор? – повторила с изумлением Вера.
– Да, у меня, к счастью, устроена в этаже, где часовня, половина, предназначенная для гостей. Там никто вам мешать не будет.
– Мама́ ни за что не решится…
– Повторяю одно: ее здоровье этого требует! Уговорите. Отец Пимен вам поможет…

