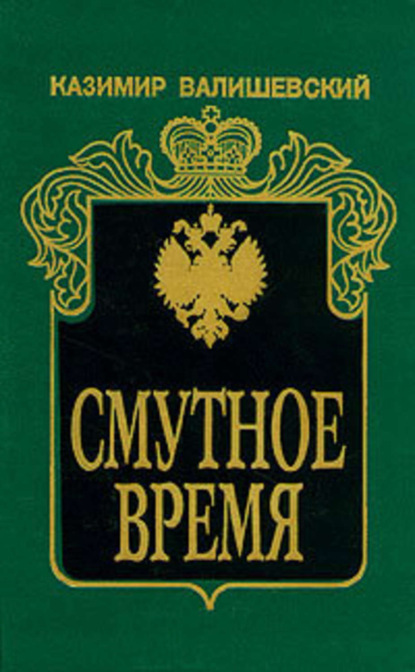 Полная версия
Полная версияСмутное время
Бутурлин, покинувший Новгород со своей шайкой грабителей, прибыл в это время под Москву к армии ополченцев. Но здесь события приняли невыгодный для казаков Заруцкого оборот. Ян Сапега приблизился к столице и 14-го августа 1611 г. удачно провел к осажденным большой обоз с провиантом; поляки оживились, перешли в наступление и прогнали осаждавших из той части Белого-города, которую они занимали. Вскоре усвятский староста заболел и в сентябре умер. Но в начале октября, после перемирия со Швецией, прибыл к полякам славный победитель при Киркгольме, Ян-Карл Ходкевич, приведя из Ливонии отряд войск. В ожидании войны с Данией Швеция принуждена, была сосредоточивать свои силы. Но и Ходкевич имел в сущности всего несколько полков голодных и деморализованных, истощенных неудачным походом и осадами крепостей. Снабжение съестными припасами – всегда очень мудреная задача – при наступлении зимы заставила самого Гонсевского возобновить маневр, удавшийся ему недавно с Сапегой, и Ходкевич удалился из Москвы, заняв позицию в монастырь у Рогачева, между Волгой и Пугой в Ржевском уезде. Однако его присутствие здесь сдерживало Заруцкого, вынужденного тоже разбрасывать своих людей за невозможностью прокормить их на месте.
В течение ужасной зимы 1611–1612 г. казаки и поляки соперничали в искусстве разорять страну. А в то время, когда шведы укреплялись в Новгород, московские бояре отправили новое посольство к Сигизмунду, все еще именем «всей земли русской» прося Владислава поторопиться приездом и занять престол, а самого короля – поскорее замирить государство.[428] Во главе подписавших это ходатайство не было имени патриарха, – его заменяла подпись архиепископа Арсения – грека.[429] Так среди полного крушения государственного и общественного здания сама церковь, казалось, распадалась и унижалась.
Чаша переполнилась! Под гнетом стольких бедствий в этой мучительно терзаемой «русской земле» произошел толчок, всколыхнувший в самых темных глубинах элементы, до той поры бывшие бездеятельными, но, без сомнения, не бесчувственными, а долго пребывавшими без движения вследствие органической пассивности национального характера. Внезапно на политическое поприще выступили новые люди с новой программой, которая еще никому не приходила в голову, которая не ограничивалась только защитой национальности. Наряду с борьбой против иноземцев она особенно настаивала на упорной борьбе с мятежниками всех сортов, которые под личиной защиты общего отечества еще более терзали и уродовали его. В своей основе, происхождении и отчасти по своим составным элементам и эта реакция была подобна той, которая уже выдвинула против поляков и казаков грозных противников, – только она была более мощная, более ясно понимающая свою цель, а потому ей суждено было на этот раз восторжествовать.
III. Победа реакцииТочкой отправления опять-таки была религия. Начали сокрушением о грехах, верою и молитвою. Ниспосланные на страну испытания представлялись заслуженною карой за грехи всего народа, о которых напоминали народной совести грозные видения. Спасение могло исходить только от милости Всевышнего, и другие небесные явления указывали пути к ней. Одно из них требовало, например, трехдневного поста «даже для грудных младенцев» и повелевало возле церкви Василия Блаженного соорудить новый храм, на алтаре которого явится знамение искупления.[430]
Скоро, однако, менее склонные к мистицизму умы придумали и предложили другие средства. Летописи того времени, составленные чинами клира или более или менее по их внушениям, приписывали и эту честь церкви; и несомненно, что Гермоген был причастен этой эволюции народной совести. Но ему суждено было вскоре исчезнуть. Давно удаленный от места действия, он умер 17 января 1612 года; по некоторым известиям, поляки задушили его или уморили голодной смертью, но более вероятно, что он пал под бременем лет и телесных и душевных мук, который он переносил с несокрушимой твердостью. До сих пор еще в Чудовом монастыре показывают темный подвал, где, по преданию, был заключен святитель с кружкой воды и мешком овса. Но это только предание.[431]
Перед смертью он отправил послание в Нижний Новгород, которое могло оказать влияние на дальнейшее развитие нового движения; смысл его я выясню далее. Но Гермоген не мог руководить первым проявлением движения, а за неимением верховного вождя Авраамий Палицын впоследствии разделил по видимости с архимандритом Дионисием положение и обязанности героев движения. В 1608 г. Троицкая лавра отразила поляков; в народе охотно верили, что она и в 1611 г. опять сделалась средоточием сбора воинов для защиты правого дела, а легенда, успевшая сложиться о личности Дионисия, способствовала распространению этой иллюзии.
Судя по рассказам летописи о первых шагах Дионисия на поприще иноческой жизни, этому игумену Сергиевой лавры как будто не суждено было войти в такую честь. В самом начале смутного времени молодой монах болтался среди сходки простонародья на одной московской площади. Какой-то простолюдин грубо спросил его: «Что ты здесь делаешь? Тебя ждет твоя келья!» – «Ты прав, брат! – ответил монах, – я согрешил, прости меня!»
Это был будущий архимандрит. Уроженец Ржева, он назывался в миру Давидом Зобниновским. Он вернулся в свою келью, но не надолго. В такие времена, как тогдашнее, монастыри всегда пустовали; переполнявшие их носители буйной юной энергии разбегались по перекресткам. Московские перекрестки не раз потом видали высокую фигуру и страстную мимику этого бродячего монаха. Но испытания, переживаемые его родиной, ставили его лицом к лицу перед жестокими страданиями и вернули его мятущуюся душу на путь ее истинного призвания. Впадая не раз в странные заблуждения и тяжкие немощи, русские монастыри вместе с тем долго служили делу милосердия; и вот за это они и до сих пор пользуются некоторым расположением народа, – увы! весьма ослабевшим. Во время осады и после нее Дионисий отличился, ухаживая за ранеными, собирая тысячами умирающих и умерших; и тогдашнее рвение его в этом служении сообщило такое обаяние его личности, что оно гораздо более всех его других подвигов приучило видеть в нем преемника по духу Гермогена. Историческая действительность оказывается несколько иной.
Защитники пр. Дионисия старались выдвинуть значение посланий за его подписью, которые будто бы вызвали первое восстание против поляков при Ляпунове и Трубецком. Заслуга была бы не особенно большая, если принять во внимание, какой характер приняло это восстание. Но известные нам грамоты из Троицкой лавры помечены июлем и октябрем 1611 г. Палицын уверяет, что такие грамоты рассылались еще в марте; это не важно: ведь 1-го апреля войско ополченцев стояло уже лагерем под стенами Москвы. Не в меру прославленный келарь хочет еще доказать, что и призыв ко второму восстанию исходил из его монастыря. На этот раз он совершает погрешность гораздо более тяжкую, чем простая ошибка в числе. Приписывать этот почин Троице-Сергиевой лавре значит противоречить исторической истине. На словах монастырь в самом деле усиленно призывал к вооружению; но по духу своему он был не только вполне чужд восстанию 1611–1612 г., но даже противодействовал ему всей силой своего влияния. Монахи и казаки обыкновенно слишком хорошо ладили друг с другом, чтобы очутиться во враждебных лагерях. По происхождению, воспитанию и нравам они принадлежали к одной и той же среде. Один из биографов Дионисия открыл в лавре своего рода Думу, которая после смерти Ляпунова приняла будто бы политическое наследие триумвирата[432] и воздвигла в Нижнем Новгороде новых защитников того же дела. Факты свидетельствуют о прямо противоположном. У нас в руках письма этой монастырской общине от Заруцкого и Трубецкого. Одно, помеченное августом 1611 года, – значит, после смерти Ляпунова,[433] – отвечает на просьбу об отводе земель; через несколько месяцев за этим письмом следует обращение к щедрости монастыря, просьба о присылке боевых запасов.[434] Следовательно, об стороны продолжали пребывать в наилучших отношениях.
– «Долой поляков и изменников! Помогайте храбрецам, осаждающим Москву!» – всегда был боевой клич лавры и в 1611 и в 1612 гг. А ведь этими храбрецами были одни казаки Заруцкого. Дионисий и его товарищи заговорили иначе только тогда, когда дело было уже сделано, когда новое ополчение, образовавшееся без их содействии и наперекор их желанию, положило основание для преобразования гражданских и военных порядков, которое исключало казаков.[435] Архимандрит Дионисий был добрым пастырем и выдающимся исправителем священных книг, – заслуга важная в его время; но он вовсе не обладал политическим умом, и национальное возрождение 1611–1612 гг. потребовало иных деятелей. В Нижнем Новгороде религиозное чувство соединилось с инстинктом самосохранения, и тогда создалась та нравственная атмосфера, среди которой сами собой возникли и боевой клич, и то единодушное усердие, которые призваны были вывести страну из самого жестокого кризиса, какие только она переживала за все свое существовало до наших дней. Уже два ополчения одно за другим выступали в поход, чтобы приняться за эту задачу. Необходимо было третье с иным знаменем и иными воинами.
IV. Третье ополчениеВозникновение этого движения еще мало известно.
В Москве, на большой площади перед Кремлем, теперь бросается в глаза бронзовая группа, изумляющая взоры иностранных путешественников. Она изображает двух римских воинов в театральных позах. Надпись на гранитном цоколе соединяет воедино в общем апофеозе имена Минина и Пожарского, героев войны за освобождение 1612 г., которая спасла Москву и подготовила восстановление национального единства под властью новой династии. Воистину, не было памятника более заслуженного; только стиль этого памятника – явная нелепость. Здесь несуразно переряжены два таких деятеля, какими может и должна гордиться история народа; но по внешности своей они не носили ни малейших признаков ни классической древности, ни романтики, ни котурна, ни шлема с перьями. Они были – и в этом их своеобразная личная привлекательность и особое величие – просто честные люди, которые робко и как будто даже не совсем охотно выступили из рядов, чтобы совершить дело, которое требовалось от них стечением обстоятельств; они весьма просто, никогда не напуская на себя ни малейшей важности, несли всю тяжесть громадной ответственности и, совершив свой труд до конца, после того как они держали в своих руках судьбу великого народа, без малейшего усилия незаметно скрылись, без заметных сожалений вернулись в свое прежнее положение: один – к своей мелкой торговле, другой – в ряды служилого дворянства.
В начале октября 1611 года в земской избе Нижнего Новгорода собрались потолковать о бедственных временах. Прибывшее накануне послание Гермогена поразило унынием умы. Оно уведомляло о новой опасности, грозящей православной вере: Заруцкий с казаками задумали посадить на престол «воренка», сына проклятого нечестивца. Уже с начала года в несколько приемов, письменными посланиями и устными наказами, патриарх призывал нижегородцев к оружию.[436] Но тогда он звал на помощь казакам против поляков и московских изменников. Теперь измена оказалась в другом месте, под другим знаменем, – ее приходилось искать не в осажденной столице, а под ее стенами! Оптовый торговец скотом и рыбой, староста Козьма Минин Сухорук встал и заговорил. Его знали за деятельного и ловкого человека, не очень разборчивого в ведении дел своих и общественных, не отказывавшегося, как подозревали, от подачек, но без крайностей и соблазна; добросовестный человек в духе того времени и страны. А теперь он проявил бескорыстную заботу об общем деле. Как и других, его посещали видения. Трижды являлся ему преп. Сергий, призывая послужить родине, окруженной опасностями. Сперва Минин отнесся недоверчиво к этим небесным внушениям, но был за это наказан болезнью. Потом он не знал, как приняться за исполнение полученных им в видении приказаний, – но святой явился снова и научил, что делать. В то время, когда Минин об этом рассказывал, один стряпчий, Иван Биркин, прервал духовидца:
– Лжешь! Ты ничего не видал!
Один взгляд Минина заставил наглеца незаметно скрыться.
В летописях, откуда мы заимствуем[437] эту наивную сцену, вероятно, воспроизведена картина не очень далекая от правды, как это можно подумать с первого взгляда. Деятельная и грубоватая натура Минина вряд ли была расположена к припадкам религиозного исступления; тем не менее, сообща с некоторыми единомышленниками, он счел нужным придать своему рассказу такую форму, потому что она служила как бы порукою замыслам, вытекавшим из верной оценки общих опасностей и обязанностей. На предварительный уговор указывает и легкость, с которой заставили замолчать Биркина, человека, впрочем, с плохой репутацией; а так как, с другой стороны, преп. Сергий и патриарх говорили согласно, то собрание тут же на заседании наметило план обороны православной веры и национального достояния против всех врагов, внешних и внутренних.
У Минина и его товарищей не было военной опытности, поэтому решили обратиться к служилым людям; но все согласились с тем, что все граждане должны участвовать в расходах; тут же был сделан первый сбор среди членов общины.
Защитники славы Троицкой лавры настаивают на ее участии и в этом замечательном заседании,[438] исход которого определился будто бы благодаря ее посланию. Но эта грамота, помеченная 6 октября 1611 года, не могла достигнуть Нижнего Новгорода ранее конца месяца, а там в это время уже организационная работа была в полном разгаре. Мало того, как все тогдашние политические послания иноков преп. Сергия, воззвание это шло наперекор тому, что входило в задачу Минина с товарищами: Дионисий и Палицын все еще восхваляли подвиги Заруцкого и Трубецкого! В этой стране повальной безграмотности питали большое уважение к письменности, и это послание от 6 октября, вышедшее из глубокоуважаемого во всех отношениях источника, наверное должно было произвести впечатление. Однако оно не побудило нижегородцев передумать и отступиться от принятых решений. Благодаря деятельности Минина, движение, возбужденное по его почину, уже распространялось вширь. Этот мясник вел довольно обширные сношения; один документ[439] приписывает ему даже знакомство с гражданами Москвы. Могло случиться, однако, что особые мнения представителей лавры, вызвав горячие прения в широком кругу патриотов, враждебных смуте, только помогли им выяснить себе свои собственные взгляды и утвердиться в своих замыслах. Летописец говорит, что послание читали в воеводском доме на собрании именитых лиц города, всех мирских и духовных властей. На следующий день снова собрались, по обычаю, в Преображенском соборе, и предприятие было окончательно устроено.
Постановили, как собирать ратников и налоги на военное дело; в главноначальствующие Минин указал кн. Дмитрия Михайловича Пожарского, который после неудачной стычки с поляками на улицах Москвы залечивал свои раны в своей вотчине Суздальского уезда.
Теперь познакомимся с этими героями среди их деятельности.
V. Минин и ПожарскийПотомки Всеволода III-го из рода владетельных князей Стародубских, Пожарские получили прозвание от городка Погарь, прежде называвшегося Радогость и переименованного так после того, как его сожгли татары. За Дмитрием Михайловичем не знали ни одного блестящего дела, где бы он блеснул воинскими талантами, чтобы внушить особое доверие согражданам. Придворный без чина при Борисе и стольник по польскому чиноначалию, установленному вторым Дмитрием, он тихо и незаметно переживал, покоряясь судьбе, превратности этой смутной поры. Служа Годунову, он не воздержался от внесения своего имени в список доносчиков, которых расплодила вокруг престола подозрительность этого государя. Россия того времени не знала безупречных людей, да и водились ли таковые когда-либо в других странах! По крайней мере за Пожарского говорила относительная прямота поведения. Его не видали ни в Тушине, ни под Смоленском. Он ничего не просил у Сигизмунда и даже после Клушина оставался верным Шуйскому.[440] Впоследствии он сражался рядом с Ляпуновым и Заруцким, но его раны избавили его от предосудительной близости с казаками. Происходя из обедневшего рода, он лично получил довольно значительное состояние от щедрот царя Василия, что тоже говорило в его пользу. Да иной выбор очень затруднил бы нижегородцев. Московия была бедна знаменитыми полководцами. Из круга более блестящих воевод – Шереметев был заперт в Москве, Шеин и В. В. Голицын попали в плен. Хотя Пожарский, будучи главнокомандующим, и не проявил талантов полководца, которых не сулило его прошлое, во всяком случае он вполне оправдал свое избрание. Следует отметить, что он принял его не без сопротивления, с искренней скромностью выражая сожаление, что нет кн. Голицына, которому он охотно уступил бы первое место.
Со своей стороны он предложил Минина в собиратели военных налогов, и мясник тоже отклонял от себя эту тяжелую обязанность; но, вынужденный принять ее, он проявил такую твердость и энергию, что они по временам казались чрезмерными и вызывали много жалоб. – «Если понадобится, мы продадим наших жен и детей», будто бы сказал он, и некоторые историки думали, что он буквально исполнял это обещание и тем способствовал развитию крепостного права. Это весьма сомнительно. Отдельные случаи сопротивления могли вызвать кое-какие суровые меры, но в общем все-таки постановление тяглых городской общины Нижнего возбудило, по-видимому, великую готовность к добровольной щедрости; часто отличались щедростью последние бедняки, дававшие больше, чем от них требовали. Одна вдова пришла сказать: «У меня есть двенадцать тысяч рублей, а детей у меня нет; вот десять тысяч, – располагайте ими». – Можно с уверенностью утверждать, что с начала до конца скромный мясник, как его обзывали, был душою, главным двигателем и руководителем великого дела.
Вооружив население нижней Волги и собрав несколько отрядов из дворян, которые, будучи изгнаны одни поляками из Смоленской области, другие Заруцким из Дорогобужа и Вязьмы, бродили, ища пристанища, – в какой именно день – трудно установить, но не позже, скорее еще раньше, февраля 1611 г., – Минин и Пожарский разослали до всем областям грамоты с вполне определенной программой действий. Они открыто высказывались против казаков, затевавших новую междоусобную войну своим нечестивым намерением возвести на престол Марину и ее сына. Одинаково отвергая «воренка», короля польского и всех их соперников, искавших престола без законного права, они желали, чтобы вся русская земля, правильно и полно представленная выборными, занялась избранием государя, «кого нам Бог даст». А пока нужно соединяться против поляков и «не давать казакам дурна никакого делати».[441]
Это было все, и этого было вполне достаточно. Скромная, как ее составители, эта программа оказалась удачной именно потому, что, ничего не предрешая, не оскорбляя честных убеждений и не нарушая достойных уважения интересов, она могла объединять всех благомыслящих и доброжелательных. Призыв услышали. Из Коломны, из Рязани, из окраинных уездов толпами шли новобранцы; в том числе немного казаков, но «добрых». Весьма широко-объемлющий, этот термин прилагался обыкновенно ко всему «гулящему люду» государства; а под Москвой в это время «худые» казаки доставляли новые доводы для тех, кто объявлял их злейшими врагами отечества. Когда Сидорке удалось водвориться во Пскове, Заруцкий и Марина, потерявши голову вследствие обманутого честолюбия, оба решились признать это новое воскресение Дмитрия; и 2-го марта 1612 года все войско, стоявшее под стенами столицы, присягнуло бывшему дьякону!
А поляки, как бы соперничая в безумии со своими противниками, как будто в ответ их нелепой выходке, совершили над собой самоубийство. Взбунтовавшись из-за задержки в выдаче обещанного рядовым жалованья или приняв участие в ссорах начальников, войска Гонсевского и даже Ходкевича в январе 1612 г. перешли от конфедерации к дезертирству.[442] Покружившись по московской территории, лучшие эскадроны вернулись в Польшу и там принялись с лихвой вознаграждать себя захватами из королевских, даже частных имений. К середине года для поддержания на русской почве своего клонившегося к падению владычества Сигизмунд обладал только двумя жалкими обломками прежних сил: армией призраков в Москве, приблизительно в тысячу человек, запертых и осажденных внутри Кремля; вскоре, томимые голодом, чтобы продлить свои мучения, они стали прибегать к омерзительным средствам, превзошедшим все доступное воображению; а близ столицы находился призрак армии, – великий Ходкевич, почти без солдат, держался в поле только одним обаянием своего имени, но все еще упорно поджидал прибытия короля! Когда король прибыл, было уже поздно; к тому же его величество мог привезти из Варшавы в Смоленск только свою супругу, воинственную королеву Констанцию, огромный двор и несколько ксендзов. А польский гарнизон Москвы уже сдался.
Таким образом, задача Минина и Пожарского значительно облегчалась. Их ополчениям не довелось выдерживать таких сражений, чтобы у них серьезно оспаривали победу; не от поляков зависело препятствие, которое сначала стало между ними и Москвой, а потом надолго задержало их движение; при этом-то и обнаружился истинный характер их деятельности. Прямая дорога от Нижнего к Москве шла через Суздаль. В марте третье ополчение готовилось двинуться по этому пути, когда узнало, что Заруцкий принимает меры, чтобы захватить Ярославль и все города Поморской области. Если бы новые поборники народного дела допустили захват северных областей в то время, когда юго-западные оставались без защиты со стороны Польши, они подвергались бы опасности очутиться между двух огней. Упредить казаков на этой стратегической линии, таким образом, стало их первой заботой. Здесь-то и произошли решительные моменты борьбы между двумя национальными партиями, спорившими из-за права распорядиться судьбой своего общего отечества. В Ярославле же, где в течение нескольких месяцев пребывало последнее временное правительство, подготовлялось разрешение продолжительного кризиса, историю которого, крайне поучительную, я так неполно набросал.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Окончание кризиса
I. Временное правительство в ЯрославлеКроме Минина, все товарищи Пожарского были военные люди или считали себя таковыми; но действовали они, как завзятые приказные. Собравшись в Ярославле, они поспешно принялись за учреждение правительства, вместо того чтобы сражаться. Вместо того чтобы дать ему военную организацию, как того требовало положение, – они старались по возможности придать ему характер парламента. Я уже говорил, что у этого народа парламентаризм в крови, но на деле он так долго был лишен представительства, что не сохранял тогда ни ясного понятия о его сущности, ни особенно тонкого чутья к нему.
В апреле 1612 г. из Ярославля от ополчения восставших разосланы были по областям новые грамоты с требованием помощи людьми и деньгами и, кроме того, присылки выборных, по двое, трое от сословия, для собрания «земского совета». О земском «соборе» не решались говорить, так как в нем первое место отводилось духовенству, а ополчение было бедно его представителями. Оно не имело ни одного епископа, хотя бы грека, чтобы выдвинуть его вперед. А Пожарский очень стоял за соблюдение порядка старшинства. Его подпись на грамотах стояла десятой, ниже боярина Морозова, боярина кн. Долгорукова и некоторых других сановников, которым он, будучи на деле диктатором, уступал по праву первенство в силу властных порядков местничества. На пятнадцатом месте он расписывался за неграмотного Минина, который по важности своей службы писался выше других Долгоруких, несмотря на их знатное происхождение.[443]
О результатах этого созыва мы можем только догадываться. Несомненно, в Ярославле существовало временное правительство, служившее, как водится, представительным органом всей земли русской. Но каким образом оно было устроено, по каким полномочиям, откуда исходила его власть, – это пока тайна. И этот «земский совет», в свою очередь, присвоил себе самые широкие права; он вел сношения даже со шведами и с «государством Новгородским», которое тогда само совсем взаправду уверовало в свою гадательную независимость и доходило до смехотворного обращения к посредничеству императора Германии.[444] Вероятнее всего, что первоначально совет состоял из собрания одних только военных начальников отдельных отрядов в армии ополченцев. Это был просто военный совет, где несколько бояр и воевод заседали рядом с казачьими атаманами, татарскими мурзами, немецкими, шотландскими, даже польскими полковниками. Из них составили подходящий подбор лиц.[445] Всех их почтили званием представителей земли русской, и они все, по крайней мере на бумаге, участвовали в деяниях нового правительства, во всех без разбора: в постановлениях судебного и административного характера, как и в дипломатических сношениях, в которые они наверное не вмешивались.[446]
Но это не важно. Даже и таким, каков он был, этот мнимый парламент сделал много хорошего и важного дела, а многие ли более правильно учрежденные собрания могут этим похвастаться перед историей? – Повторяю, мы все-таки очень плохо осведомлены о происходившем в Ярославле; само продолжительное пребывание Пожарского в этом городе для нас загадка. Очень хорошо сделали, что упредили Заруцкого на севере; но особенно необходимо было не дать Сигизмунду упредить себя под Москвой. Король должен был прибыть; верные ему бояре получали на этот счет из Варшавы вполне определенные обещания;[447] польский гарнизон в столице и войска Ходкевича творили чудеса твердости и терпения только в надежде на близкую помощь, которая могла бы снова привести к удивительному успеху вроде Клушинского чуда, если бы Жолкевский опять принял на себя командование.

