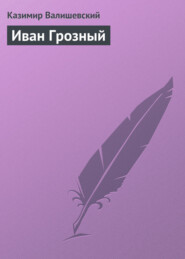 Полная версия
Полная версияИван Грозный
Старое вече отошло в область преданий. В политической и социальной организации московской державы не было основания для развития представительных начал, имевших место у других славянских и германских народов. Для перехода от вече к народному представительству здесь не было таких промежуточных форм, как съезды дворянства, magna consilia, Herrentage. Подобно боярской думе, земский собор явился видоизмененным старым русским обычаем. Русские князья совещались некогда со своей дружиной, на место которых впоследствии стали служилые люди. С расширением административной деятельности явилась необходимость в служебном представительстве. Всех служилых людей ведь нельзя было собрать в Москве. Правительство и прибегло к выборному началу для распределения служебных функций. С другой стороны, эти избранные представители служилого сословия оказались как бы его депутатами. Так и установился обычай созывать в столице совещания избранных должностных лиц. Задачей их было обсуждение очередных вопросов администрации или совместное решение каких-нибудь общих дел. Доступ на собрания определялся особой системой. Какова же была эта система? Производились ли выборы и в какой форме? Мы об этом ничего не знаем. Во всяком случае можно полагать, что должностные лица являлись на соборы только как представители администрации, и забота о социальных нуждах их не касалась. Они возвышали свой голос не как защитники каких-нибудь корпоративных групп, но как органа правления. Центральная власть призывала их, чтобы получить от них сведения и вручить им свои инструкции. Это все. Никакого действительного обсуждения вопросов не было. Даже в тех случаях, когда правительство делало вид, что спрашивает совета у собрания, оно в сущности только давало ему свои приказания.
О каких-либо политических правах этих мнимых представителей и их избирателей никогда не возникало существенного вопроса. Московское правительство иногда как бы заигрывало с соборами, пользуясь неопределенностью их положения. Ни одно из этих совещаний не оставило после себя следов законодательной работы и даже никакого самостоятельного решения. Переход князей с одного места на другое и связанный с этим неустойчивый характер русских учреждений мешал развитию корпоративных начал и образованию классов. Группировка разрозненных общественных сил поэтому сделалась задачей центральной власти, которая, естественно, не думала о правах народа, а заботилась главным образом о том, чтобы положить на него разного рода обязанности. Впоследствии в своем основании новый строй свелся к принципу повинности, тяглу. Введение выборного начала в эту систему нисколько не поколебало ее основания. В обществе мало были развиты социальные интересы, его элементы, можно сказать, недостаточно понимали свои нужды. Благодаря этому выборы и депутатские полномочия были просто новой повинностью, присоединявшейся к общему тяглу. Выборная основа соборов, как мы видели, не доказана, но если даже мы допустим ее существование, то все-таки она будет представляться не завоеванием стремящегося к свободе народа, а правительственным заданием, вызванным нуждами государства. Земские соборы были продуктом административного творчества, а не плодом продолжительной национальной работы. Их можно назвать надстройкой, механически добавленной к старому неуклюжему зданию, но никак нельзя считать следствием внутреннего развития. Это эпизод эфемерного свойства в истории русского государства. С 1550 по 1653 г. было созвано 16 соборов, и после закрытия последнего из них не осталось ни живой памяти, ни сожалений о них. Соборы были вызваны к жизни произвольным решением правительственной власти и произвольно той же властью были уничтожены. Ни существование, ни исчезновение их не оставило никакого следа в судьбе русского народа. Пусть даже не правы те историки, которые утверждают, что эта ветвь славянства не способна к свободным формам политической жизни, пусть кажется клеветой их положение, что русская нация обречена на вечное рабство абсолютизму, все-таки в XVI в. не было никакой серьезной попытки в стенах Кремля ввести парламентарный строй.
Историческое значение собора 1550 г. обусловливалось важностью забот, заставивших правительство прибегнуть к этому средству. За созывом собора последовали важные государственные мероприятия. Царь доказал, что он знает, какие язвы разъедают государственный организм. Он смелой рукой сорвал с них покров. Теперь ему оставалось для врачевания его применить лучшие средства, чем те, которыми пользовались до той поры. Уже следующий год открывает собой эру преобразований.
Глава вторая
Первые преобразования
Преобразовательные течения. Новый закон. Реорганизация службы. Религиозная реформа.
I. Преобразовательные теченияИз среды образованного класса, в количественном отношении еще ничтожного при Иване IV, а в умственном мало развитого, но уже заинтересованного некоторыми политическими и социальными вопросами; из среды людей мыслящих, спорящих, пишущих, исходило два преобразовательных течения. Отправные их положения резко отличались друг от друга, но в конечных целях они сходились весьма близко. И то и другое направление выдвигало новые понятия и планы. Оба они были связаны с великим вопросом современности, с вопросом, касавшимся прав владения землей. Читатели уже знают, какую позицию в этом остром вопросе заняли последователи Нила Сорского и Вассиана Патрикеева. Новый толчок к развитию идей нестяжателей сообщил упомянутый выше памфлет «Беседа Валаамских чудотворцев». Отличаясь причудливой формой, порой совершено затемняющей мысль автора, этот памфлет производил большое впечатление благодаря силе и выразительности языка. В этом произведении выводятся фантастические старцы, валаамские чудотворцы – Сергий и Герман. Личность автора остается неизвестной. Некоторые приписывали это произведение перу Патрикеева, но оно написано слишком запальчиво и дерзко. Едва ли какой-либо монах решился бы с такой смелостью восстать против накопления богатств в руках черного духовенства. Правда, политические воззрения автора могут напомнить какого-нибудь монаха своей странной наивностью. Так, по его мнению, главной заботой правительства должно быть наблюдение за точным исполнением постов. Автор требует, чтобы советниками царя были только миряне, а не духовенство, неправильно присваивающее себе подобное положение. Жить в бедности и молиться – это удел духовенства. Трудно допустить, чтобы подобные взгляды высказывались Патрикеевым. Его честолюбие вряд ли бы примирилось с этим.
В такой постановке земельный вопрос расширялся, затрагивал другие интересы и вызывал целый ряд новых требований. Если скопление земель в руках монастырей есть зло, то не будет ли таким же злом и раздача земель служилым людям, постепенный захват ее этими привилегированными элементами, неправды которых сам Иван недавно так изобличал? Ответом на этот вопрос явился новый памфлет, в форме послания царю. Автором его был Ивашко Пересветов, – собственное ли это имя или псевдоним, неизвестно.
Произведение Пересветова явилось настоящим обвинительным актом против служилого класса землевладельцев. По его словом, они волшебством и интригами приворожили сердце царя и заставляют его выполнять их волю. Они чрезвычайно разбогатели, обирая безжалостно разоренных крестьян. Они проводят жизнь в лености и разврате. Трусость их также велика, как и жадность. Когда они идут на войну, то губят царскую армию, а в мирное время они присваивают себе громадную часть собирающихся с народа в царскую казну податей. Они повинны во всех бедствиях государства.
Что же из этого вытекало? Секуляризация церковных имуществ давно уже занимала московское правительство. Иван III занимался этим вопросом. При нем делались некоторые попытки в этом направлении. Теперь возникал вопрос о служилом землевладении. Как же Ивашко Пересветов разрешал эту проблему? Он предлагал радикальную меру – уничтожить систему кормления, отобрать земли, розданные служилым людям; взамен земель он рекомендовал платить годовое жалованье за службу. Таким образом в руках государя окажутся послушные исполнители. Земля освободится и вернется к своим законным владельцам, и это освободить народные массы от невыносимой тирании.
Оба эти произведения с литературной точки имели большое родство между собою. В одном из них выступали вымышленные старцы; в другом они были заменены каким-то волошским воеводой, у которого будто бы автор имел свое пребывание. Стиль произведения Ивашки Пересветова также причудлив. Несмотря на загадочную форму этих произведений, разные околичности, неясные и прямо темные места, столь характерные для всей фразеологии того времени, в них рекомендовались такие революционные планы реформ, каких мы нигде в других источниках не встречаем. Ни в одной стране не было таких решительных сторонников теоретического радикализма, как в России. Новейший русский нигилизм имеет свои корни в отдаленном прошлом. Но между теорией и практикой тогда, как и теперь, была большая дистанция. В обоих произведениях речь шла не более, не менее, как о полной перестройке политического и социального здания. Обе программы реформаторов касались двух категорий земельной собственности. Оба проекта дополняли друг друга, между ними нет противоречия. Оба они представляют собой революционные и демократические решения одной и той же задачи.
Что думал об этом Иван? Как относился он к этому двойному течению? Что касается вопроса о церковных имуществах, то в нем он являлся последователем своего деда. При всех своих изменениях и колебаниях московская политика оставалась в этом вопросе устойчивой. Преемство ее сохранялось в продолжение многих царствований. Однако как деду, так и внуку приходилось считаться с известными препятствиями, которые могли быть ослаблены и устранены только лишь продолжительным временем. Реформа светского землевладения должна была считаться с большими затруднениями. Кем бы ни был Ивашко Пересветов и откуда бы ни заимствовал свои идеи, он должен был чувствовать за собой могущественную поддержку, чтобы говорить так смело. Некоторые места этого памфлета звучат, как эхо речи, произнесенной молодым царем на Красной площади. Некоторые склонны были видеть в нем официозного писателя, быть может предположение это было близким к истине. Хотя и недостойны были служилые люди, против которых сам царь обещал действовать со всею строгостью, но проект Пересветова предлагал прямо экспроприировать их земли, втиснуть их в узкие рамки. Эти меры рекомендовались по отношению к армии и чиновникам – этим двум столбам государственного устройства. Иван очень много думал о замене их. Но для этого раньше нужно было найти тысячи Адашевых, а жить ведь нужно было. И для того, чтобы продолжать существование, нужно было не только отказаться от мысли изменить существующий порядок в ущерб служилым людям, но напротив, скорее упрочить их положение. Еще никакая реформа не коснулась положения служилых людей, когда их привилегиям грозил сильный удар. На владельцев раздавались сильные нарекания, но они, со своей стороны, могли выставить веские оправдания. Они угнетали сверх меры крестьян, но те ведь разоряли помещиков, покидая их земли. Раньше правительство благосклонно относилось к крестьянским переходам и даже им содействовало, видя в них могущественное средство колонизации окраин. Теперь же сама власть почувствовала в этих переходах большую опасность, чем злоупотребления кормленщиков. Палач всегда может усмирить строптивых. Но что делать, если для войска и администрации не хватить сил? Что делать, если помещики, и без того плохо наделенные землей, останутся без куска хлеба? Государство окажется в безвыходном положении.
В своих обличениях и планах Ивашко Пересветов рекомендовал применить одни и те же меры и к крупным, и к мелким собственникам. Он не находил разницы между временными владельцами небольших участков и собственниками обширных вотчин. Пренебрегая достижимыми целями, он уходил слишком далеко от реальных условий. Земля в московском государстве была единственным фондом, которым располагало правительство. Естественно, что, за неимением других средств, оно пользовалось ею для вознаграждения лиц, состоявших на государственной службе. Нахождение земли в руках помещиков не представляло ни общественного зла, ни политической опасности. Действительно привилегированный и опасный элемент представляли владельцы старых вотчин. Они одни сохраняли свое богатство и даже часто увеличивали свое состояние, пользуясь кризисами и разорением мелких землевладельцев. В их распоряжении всегда находились в достаточном количестве рабочие руки, которые или привлекались ими лучшей оплатой труда, или же силой переводились на их земли. Вотчины росли. Крестьянское население в них увеличивалось, а вместе с этим увеличивалась и независимость их хозяев. Они также служили государству, но по своему желанию, и они составляли недисциплинированную, строптивую массу, непривыкшую повиноваться и почти недоступную карам.
Правительство постоянно заботилось о государственных интересах. Оно не могло обойтись без помещиков и без вотчинников. Поэтому оно не могло думать о немедленном уничтожены их интересов. Для него было более удобным противопоставить друг другу обе эти стороны и, ослабляя более сильную и опасную, тем самым укрепить слабую, менее угрожающую. Достигнув этой цели, надо было скорее устранить враждебные элементы. И, таким образом, сохраняя неприкосновенным здание государственного строя, удержать на месте полезные колонны и удалить ненужные. Это приводило к завершению исторического процесса, длившегося уже более века: медленно, но неуклонно вытеснялись удельные князья и вотчины, и укреплялись самодержавный царь и поместная система. Иван должен был остановиться именно на этой программе. Только она одна соответствовала традициям и насущным потребностям его державы.
До последнего времени этого не понимали; между тем здесь вся история опричнины.
Иван, конечно, к этому пришел не сразу. В тот момент, к которому мы теперь подошли, он, быть может, сам блуждал между двумя течениями идей, новизна и смелость которых могли увлечь его пытливый и предприимчивый дух. Он внимательно прислушивался к нестяжателям и, вероятно, поддерживал Ивашку Пересветова. Он искал своей дороги, вступал на нее осторожно, пробуя почву и, когда нужно, отступая назад. Такова история 1550–1551 годов с событиями, относящимися к этому времени. Как, например, редакция нового закона, созыв церковного собора. Благодаря тому, что на этот собор был введен светский элемент и на нем обсуждались государственные вопросы, этот собор создал целую эпоху и в политической жизни страны.
II. Новый законЛюдовик XI перед смертью мечтал собрать и объединить обычаи Франции. Эта мысль была осуществлена только при Генрихе III. Но здесь еще не было кодификации. Русским законодателям 1550–1551 г. пришлось переработать существовавший уже раньше кодекс – Судебник 1497 г. В этом кодексе обнаруживалось стремление к установлению в государственной жизни единообразия и попытка ввести общий для всех порядок судопроизводства. Русские законодатели по сравнению с западноевропейскими как будто имели первенство на своей стороне. Но это только кажущееся преимущество 1497 г. в сущности почти не изменило юридических понятий и формы Русской Правды XI в. Только в отдельных случаях оно попыталось приспособить их к условиям своего времени. За исключением отдела о судопроизводстве и судоустройстве, Судебник представлял копию древнего русского юридического памятника. Судебник Ивана III проникнуть духом политической централизации. В законодательной деятельности Ивана IV проявилось два как будто противоречащие друг другу направления. Судебник 1550 г. в некотором смысле делает шаг назад: он передает судебные функции старым местным организациям. Но в то же время с чисто юридической точки зрения он представляет собой хотя и робкое, но несомненное движение вперед.
Из этих двух сторон нового кодекса первая имеет несравненно большее значение. Задача тогдашней администрации целиком сводилась к отправлению судебных обязанностей. Поэтому новый кодекс проводил общую коренную реформу управления, правда, в очень смутных и неопределенных положениях. Но от литературных произведений того времени вообще нельзя ожидать большей определенности.
Реформа не явилась произвольным измышлением самого Ивана или его советников. Программа Ивана III была проникнута духом централизации, однако он уже допускал население к некоторому участию в суде. Население принимало участие в нем через своих выборных представителей – старост, сотских, добрых людей. Подобная уступка со стороны правительства была вызвана, очевидно, живучестью некоторых местных традиций. Однако роль этих выборных от народа лиц ограничивалась простым контролем судопроизводства и оставалась факультативной. Это были как бы обложки уничтоженных древних учреждений, а потому и рамки деятельности их были слишком сужены. Старосты, сотские, добрые люди были не везде, государство не заботилось ввести их повсеместно. Новый кодекс провозглашал намерение провести выборное начало и сделать его обязательным. Выборные люди должны были быть во всех судебных округах. Даже больше того. Во время малолетства Ивана центральное управление создавало большие беспорядки в областях: должностные лица часто пренебрегали своими обязанностями; силой вещей создались новые судебные власти. Кому-нибудь нужно же было задерживать и судить наполнявших в то время страну бродяг и разбойников. Сельские и городские общины разных областей ходатайствовали пред правительством о разрешении им выполнять судебные функции через выборных лиц. Правительство предоставляло населению эти судебные права особыми грамотами. А выборные органы этого нового типа учреждений стали именоваться губными старостами. Губой назывались части областей, т. е. округа. Так, на губы разделялись Псковская и Новгородская области. Сначала эти новые местные суды не касались уголовных дел. Но с течением времени и дела последнего рода наравне с другими перешли в их ведение, и судебник 1550 года дает только формальную санкцию совершившемуся факту. Одним росчерком пера уголовная юрисдикция была возложена на местные общины. И это был только первый шаг. Наступившие вскоре войны мобилизовали служилых людей, и за отсутствием их казалось естественным и удобным административные обязанности возложить на новые общинные выборные органы. Целым рядом грамот, изданных после 1555 г., правительство преобразовало свою финансовую организации: теперь как распределение, так и сбор налогов передавались общинам.
Это было ни более, ни менее как частичное осуществление программы Ивашки Пересветова. Кормление уничтожалось устранением самих кормленщиков. После 1552 г. Иван и не скрывал своих намерений реорганизовать систему администрации на этих началах. Служилые люди при этом должны были утратить существенную основу своих прав на землю. Характерно, что служилые люди и не протестовали против этого плана, с их стороны не слышится никаких жалоб. Они, очевидно, охотно соглашались отказаться от своих привилегий на землю даже при скромной денежной компенсации, но более верной, чем непостоянный доход с их приходивших в разорение поместий. Казалось, реформа даст общинам полную автономию и произведет коренную перемену в хозяйственном, социальном и политическом строе государства. Но она приостановилась. Как и следовало ожидать, люди оказались ниже идеала. Население во многих местах оказалось не подготовленным к выполнению возложенных на него обязанностей и не могло воспользоваться благами оказавшегося ему не по плечу самоуправления. С правом собственного суда была связана тяжелая ответственность. Некоторые области были очень редко населены, общинная организация поэтому встречалась с непреодолимыми препятствиями, даже самые подготовленные к общественной работе элементы не могли проявлять свою деятельность из-за разбросанности на огромных пространствах. Кроме того, население боялось ответственности и уклонялось от осуществления предоставленных ему прав самоуправления. Да и само правительство смотрело на общинную автономию как на привилегию, а по старым традициям всякая привилегия должна быть оплачена. Поэтому грамоты, устанавливавшие общинное самоуправление, сделались предметом торговли. Общины должны были покупать судебные права, которых лишались прежние должностные лица. Одни не решались на подобные денежные жертвы, другие не могли их произвести по бедности. В этом отношении население края разделилось на две части. На севере по среднему и нижнему течению Оки население было промышленным, более сплоченным. Оно воспользовалось реформой. На юге недостаток материальных средств и низкий культурный уровень населения мешал ее проведению. С течением времени, с ростом населения и развитием его благосостояния, самоуправление могло распространиться повсеместно. Однако развитие общин скоро приостановилось: петля крепостного права все туже затягивалась и душила их. С другой стороны, укоренялся бюрократический режим и в центре, и в некоторых провинциях. Правительство накладывало свою руку на новые учреждения и искажало их. В конце XVI века губные старосты обратились в простых чиновников, назначавшихся правительством и зависевших от Москвы.
Неудачная попытка Ивана IV очень напоминает реформу, проводившуюся во Франции в XII–XIII в. Филиппом-Августом и Людовиком Святым. Этой реформой были созданы городские общины. Еще большую близость мы замечаем между преобразовательными попытками Грозного и мероприятиями X–XI в. во Франции, где путем грамот, даровавшихся крестьянам отдельных феодалов, было положено начало образованию сельских общин. Но между этими двумя явлениями есть существенная разница. Во Франции реформа была направлена на освобождение крестьян, в России же, напротив, она способствовала их закрепощению. Русские крестьяне были уже более несвободны в то время, когда Иван Грозный хотел воспользоваться их стремлением к независимости для своей государственной реформы, и они остались безучастными к намерениям царя.
Иван также следовал примеру Эдуарда I, английского короля, возложившего на gentry полицейские и судебные обязанности. Но в Англии в теории и на практике повинность неразрывно связана была с привилегией. На Руси же между тем и другим не было связи. Среди крестьян не было подходящих кандидатов на должности по самоуправлению или же правительство не хотело их найти. Так эта выборная должность стала привилегией служилых людей в том смысле, что крестьяне должны были выбирать кандидатов на должности из этого класса людей. На их же долю оставались только тяжелые обязанности. Однако и сами служилые люди скоро почувствовали, что и их положение незавидно. Им недоставало самого существенного – независимости. Здесь перед нами вскрывается самая характерная черта московской политики; мы видим если не единственный, то, по крайней мере, главный мотив преобразований Ивана IV. Целью их меньше всего было усиление централизации. Без сомнения, эти попытки реформы имели совершенно противоположную тенденцию.
Здесь рельефно выступают роль и фикции внешних приемов московской политики. Реформа имела только один прочный результат: она способствовала разложению тех независимых элементов, которые еще существовали в московском государстве. Политическая программа Ивана ставила своей задачей централизацию власти. Но осуществление ее встречало препятствие в лице владетелей наследственных вотчин. Они еще пользовались широкими правами и полнотой власти на своих землях. Молодой царь решил покончить с этими остатками прошлого времени. Средством для этого и явилась новая правительственная система, объединявшая разнородные элементы. Ее действия он сам направлял полновластной рукой хозяина. На Западе централизация опиралась на освобождавшиеся зависимые классы. Старые феодальные формы разрушались и уничтожался местный партикуляризм. На Руси классовых делений не существовало; город, монастырь, деревня со своим владельцем, уезд, населенный свободными крестьянами, представляли ряд не связанных друг с другом общими интересами мирков. Государственная власть делала попытку искусственно создать отсутствующее элементы. Оно образовало местные общины, между которыми распределяло повинности. Но указы бессильны создать подлинную жизнь. Задуманная реформа оказалась мертворожденной. Впрочем, она имела значение в том смысле, что она уничтожила следы старого и подготовила торжество нового порядка, при котором совершилось всеобщее порабощение.
Судебник 1550 г. с большой осторожностью касается вопроса о праве собственности на землю. Во всяком случае законодатель становился в оппозицию к передовым течениям того времени. Консервативные элементы могли быть удовлетворены его мероприятиями. Обычай, закреплявший право собственности на землю, приобретал теперь силу закона и получал некоторую устойчивость. Он признавал право выкупа наследственных владений, т. е. продавец, или, за его отсутствием, родственники могли во всякое время вернуть себе отчужденную недвижимость, возвратив купившему стоимость его. Правда, действие этого закона было ограничено сорокалетним сроком со времени его издания, и воспользоваться правом выкупа могли лишь только ближайшие родственники; но все же законодатель укреплял один из самых ненавистных пережитков, препятствовавших свободе обмена и экономическому развитию.



