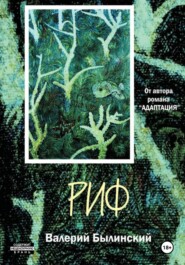
Полная версия:
Риф
За год до окончания школы брат увлекся еще и культуризмом, доводя себя до изнеможения силовыми тренировками. Его комната запестрела вырезанными из журналов фотографиями силачей всех стран и национальностей. Он купил гантели, штангу, по утрам стал бегать по дорожкам парка. Каждый день после уроков он уделял час-полтора мышечной тренировке.
Как-то я заглянул к нему в комнату – он тогда уже поступил на первый курс института – и удивился, заметив множество приклеенных к обоям маленьких кусочков бумаги, на которых было что-то написано. Магнитофон был включен, играла музыка. Брат лежал под штангой и, весь красный от напряжения, выжимал ее.
– Это что? – осторожно спросил я и кивнул на надписи.
– Цитаты из Евангелия, – брат усмехнулся.
Я знал, что брат раздобыл Библию и читает ее, но цитаты были не оттуда, это я сразу понял.
– Что здесь написано? – я подошел к самой крупной надписи.
– Здесь написано: «Готовься к войне», – ответил брат, и звук его голоса казался выдохом какого-то чудовища, изнемогающего от непомерной тяжести. Вадим, шелестя напряженным ртом, выжал последний раз штангу и забросил ее на металлические стойки позади головы. Он встал с гимнастического лежака – большой, потный, загорелый, в одних вылинявших голубых плавках, тряхнул курчавой головой, взглянул на меня прозрачными глазами и, потянувшись, сказал:
– Как хорошо… Как прекрасно я себя чувствую, Влерик!
Меня обдало здоровым пышущим импульсом его силы – и я, худой, маленький и слабый, вздрогнул – словно в меня, полного воды, швырнули камень. «Я займусь! – быстро, восторженно решил я. – Я тоже займусь, возьму гантели, начну с маленького веса и накачаю такие же мышцы», – ритмично, под скачущий бег музыки из магнитофона думал я. И чем быстрее стучала музыка, тем стремительнее мчались мои мечты. Брат энергично расхаживал по комнате, он улыбался и смотрел, сощурив глаза, куда-то вверх. «Как в будке с Пиратом», – вдруг вспомнил я. И снова взглянул на самую большую надпись.
– Пара беллум, – прочитал я. – Ведь это пистолет?
– Да, – отозвался Вадим, – по латыни: готовься к войне. Так говорили римляне. Как тебе такие словечки, Влерик?
Я подошел к следующей цитате.
– Ага, вот из Библии…
Брат засмеялся, подняв подбородок:
– Как раз это – нет. А все остальное – да.
Я, опустив голову, исподлобья смотрел на стену, пестревшую белым, на эту надпись, одну из всех явно из Библии – я это понимал отчетливо и агрессивно, упрямо злясь на брата, ведь он, издеваясь, наверняка обманывал меня – но зачем? Я разглядывал эту надпись как плакат, как объявление, смысл которого давно уже не важен для человека, стоящего перед ним, я чувствовал себя большим, чтобы понять под-пись, а не смысл цитаты – ее я не запомнил. Но листок бумаги был подписан знакомым словом: «Бытие», а дальше шли цифры, вероятно номера страниц или глав.
Брат молчал за моей спиной. Я повернул голову влево, не поднимая глаз вздохнул и вдруг сказал:
– Нет, это из Библии.
Брат снисходительно усмехнулся – так, словно после поставленной точки опять приходилось разъяснять смысл.
– Я же сказал, Влерик, что нет…
– Нет, оттуда!
Я все еще не поворачивался к нему от стены. Брат сделал шаг, оказался слева от меня и пару раз легко хлопнул меня по плечу рукой:
– Ты, маленький Валерик, похож на Цезаря, когда его взяли в плен пираты. Он был, правда, постарше – но такой же упрямый. Так вот, он сказал пиратам: когда меня выкупят, я вернусь сюда, на этот остров – где его держали – и всех повешу. Пираты смеялись, а Цезарь действительно вернулся и со всеми рассчитался – понимаешь?
Я молчал.
– Знаешь, братик, – тихо усмехаясь, говорил Вадим, – я подумал: а вдруг ты и вправду сделаешь так, что цитата будет из Библии. Было бы забавно, очень…
«Падающего подтолкни», – тихо, угрюмо сказал я, читая следующую надпись.
– Верно, – сказал брат, – верно мыслишь, Влерик. Может, ты тоже желаешь стать аристократом духа?
– Аристократом духа?
– Да, так называли сверхчеловека. Хочешь им быть? – он засмеялся и, подойдя ко мне, пощупал мой бицепс.
– Не знаю, – сказал я, и вдруг запах его спокойной уверенности проник в меня и толкнул изнутри – мое горло само сделало несколько глотательных движений.
– Жить, жить, жить! – кипели слова брата, ходящего по комнате так, словно сейчас окно разлетится вдребезги и нас вынесет наружу.
– Как хорошо жить, Влерик! О… что бы я сейчас сделал… – он повернул голову и с жесткой властной улыбкой посмотрел на меня. – Ты… если кто-нибудь обидит, скажи мне. А, Влерик?
Позже я понял, что эти слова были блажью, развлечением его все время куда-то бегущего духа. Больше брат никогда не предлагал мне свое покровительство. Может быть, он все же стыдился меня и старался прикрыть мускулами сверхчеловека какое-то чувство ко мне.
А тогда я, пьяный от восторга, согласно кивнул. Я стоял, уже наполовину выросший в силе – потому что находился рядом с ним и спрашивал, с чего следует начать, чтобы укрепить мышцы.
– Я дам тебе комплекс упражнений, – сказал брат. – Но главное – отжимайся от пола. Отжимайся до изнеможения, в любом месте и в любой час. Если заболеешь – тоже отжимайся, ясно, Гип? – брат протянул руку и потрепал мои волосы. Мы иногда так называли друг друга, Я его – Урия, он меня – Гип.
– Как картины, рисуешь?
– Да, – ответил я, – натюрморты в художке…
– Ну, а на фронте как?
– На фронте… – я задумался и, весь напрягшись, услышал далекие разрывы.
– Пока без перемен, – сказал я, – связь между передовыми соединениями так и не наладили.
– Значит столица гипов еще не пала? – весело спросил брат.
– Пока еще нет.
– Ладно, Влерик, – серьезно сказал Вадим, посмотрев в сторону, – так уж и быть, скажу тебе: перехвачена радиограмма гипов, в ней сообщается, что контрнаступление начинается рано утром в эту субботу…
Охваченный чувством новой здоровой силы, я даже однажды настоял на том, чтобы Файгенблат зашел ко мне домой – брат как раз уехал, и я тайно тренировался в его комнате с гантелями маленького веса, которые он мне оставил. Мне хотелось удивить приятеля, и я специально не вышел в коридор, а остался лежать на гимнастическом лежаке Вадима, выжимая над головой штангу с самым легким весом, а когда Файгенблат зашел в комнату, я небрежно, на выдохе, сказал ему: «Привет», поднял штангу еще раза три, забросил ее на металлические стойки над головой и только потом встал.
Мы с Файгенблатом собирались в этот день в кино, он пришел ко мне в аккуратных черных брючках и рубашке, а я стоял перед ним в одних спортивных трусах, потный, еще разгоряченный упражнениями, чувствуя каждую мышцу своего тела и его невольное восхищение, которое он, конечно, сразу же тщательно скрыл, начав расхаживать по комнате и разглядывать цитаты. Я лениво сказал Файгенблату, что мне нужно принять душ, не спеша вышел из комнаты, а когда вернулся, он все еще читал надписи на стенах и спросил меня тоном, в котором я с радостью уловил удивление: « Это ты, что ли, написал, Ромеев?» «Нет, – сказал я, – это брат». «А… – сказал Файгенблат, – а вот эта цитата неправильная», – и указал на ту самую надпись из Библии. «А ты откуда знаешь?» – спросил я. «Неправильная, – недовольно сказал Файгенблат. – Моя бабушка Ветхий Завет наизусть знает, там не так». «Много ты понимаешь, – сказал я, – это писал мой брат».
4
Изредка родители с улыбкой вспоминали, как в детстве иногда били Вадима. Обычно этим занималась мать – красивая женщина, всю жизнь проработавшая бухгалтером либо кассиром, она часто уходила в свою задумчивую и чувственную жизнь, о чем-то мечтала, куда-то пропадала и нередко возвращалась с работы поздно – но громких ссор с отцом из-за этого не возникало. Отец был мягкий, тихий и веселый человек, слишком занятый ответственностью, которую налагали на него возрастающие по значению должности – одно время он был даже директором шахты. Родителей соединяла общая любовь к застольям, дом, и мы – сыновья.
Почти каждое лето мы всей семьей отправлялись в Одессу, к родственникам матери. У ее дяди там была дача – из города мы добирались на электричке часа два. Деревянный дом в пять крошечных комнат, увитый виноградом забор, а рядом, если перейти железнодорожное полотно, море и песчаный пляж, на котором всегда почему-то было мало людей. Когда здесь возникали песчаные бури – а это бывало часто – мне всегда казалось, что наступает неотвратимый конец очередной главы «Материка» – все главные события моей войны происходили здесь.
Сюда, на этот бесконечный берег, высаживался десант уриев, и здесь же из-за морского горизонта их обстреливал линкор. Я рыл окопы, а однажды мы с братом построили целый блиндаж – с входом и выходом – в то время как все остальные дети лепили песчаные замки или носились по берегу, играя в другую войну.
Вадим с отцом часто отправлялись рыбачить. На надувной резиновой лодке они уплывали в море и я, взобравшись на насыпь, мог их видеть в солнечном блеске. Они возвращались, наловив бычков и камбал. Мать жарила нам эту рыбу, и мы ее вместе ели, запивали квасом или холодным лимонадом, а потом кто хотел, тот после обеда ложился спать, я же любил, лежа на своей койке, думать, воображать и сочинять.
Еще я там рисовал, раскрепощаясь почти до конца, – ведь брат, изнемогая как и все мы, от непобедимой солнечной лени, забывал на время о моем предполагаемом таланте, с улыбкой спрашивал что-нибудь о гипах и иногда замечал как бы вскользь: «Что, Талантик, завтра опять подъем чуть свет и восход рисовать, а?»
Но восход – и брат это помнил – я рисовал не здесь, это было как раз тогда, когда родители отправили меня единственный раз в жизни в детский лагерь на весь август – дя-дя матери заболел и мы не смогли приехать в Одессу. Мало того, что меня лишили моря; я попал, пожалуй, в тюремное заключение. Может кто-то и любил в детстве эти лагеря, но я их ненавидел. Бесконечное, с утра до вечера, лишение всяких человеческих прав и прихотей, песни хором, дневной сон по приказу и унылое выполнение всякого рода дежурств и территориальных уборок.
Как всегда, я и здесь стал художником – убежал от всех поближе к самому себе и, может быть, к брату. Я выиграл конкурс рисунков на асфальте, но уважения сверстников не прибавилось. А потом, в конце лагерной смены, настало самое мучительное: выяснилось, что родители за мной быстро приехать не могут, у них что-то случилось и мне нужно подождать. Лагерь располагался на берегу речки, вокруг – низкие хвойные леса; чтобы попасть домой, нужно было идти пешком на автобусную остановку, ехать до вокзала, а потом еще и на поезде.
Я был не так уж и мал, в классе втором, но никогда еще не ездил в поезде один. Меня должны были забрать, и я свято верил в это, даже предстоящие прогулы первых школьных дней меня уже не радовали – хотелось к родителям, домой. Но все разъехались, настало первое сентября, и пионервожатые, две молодые девчонки-десятиклассницы, забрали меня в свой флигель, потому что в главном корпусе начался ремонт. Два дня я прожил там, и только веселый смех пионервожатых и их ночные разговоры заставляли меня не плакать – ведь прилюдный стыд для меня всегда был страшнее одиночества. Они вкусно меня кормили, звонили домой и говорили, что мама приедет «вот-вот», а я, подчиняясь все тому же странному инстинкту несвободы, зачем-то ходил рисовать акварелью солнечный восход – пожалуй, это лучшая моя картина из всех детских лет, потому что там изображен восход не речной, а морской, и еще потому что я понял: воображенное часто реальней зримого.
Моим мучениям пришел конец рано утром – щелкающая семечки десятиклассница разбудила меня и сообщила, что приехал брат. Я помню его недовольное лицо – конечно, он против желания поехал за мной; помню его чуть надменную и в то же время настороженную улыбку – ведь рядом стояли две девушки, старше брата как минимум на два года и с интересом разглядывали его. Вадим подходил неторопливо, засунув руки в карманы брюк, и было видно, что он сильно смущен, настолько, что не может этого скрыть. «Ну… давай… я за тобой», – негромко, чуть хрипло сказал он, потом кашлянул и посмотрел в сторону. Ощутив спокойную радость, я шагнул навстречу и помог ему: «Привет, Вадим… наконец-то». Он вытащил одну руку из кармана, закурил и, не смотря на девушек, о чем-то лениво заговорил со мной. А они продолжали, щелкая семечки, его разглядывать, а одна из вожатых зашла во флигель, вернулась и показала брату мой акварельный восход: «Видишь, как твой брат рисует». Вадим небрежно кивнул, отдал мне рисунок, снова засунул руки в карманы и пошел со двора: «Ну, ты… давай, Валера, собирайся. Я тут погуляю».
Через год, когда мы вновь отдыхали под Одессой, Вадим вдруг решил уехать раньше – он что-то сочинил о новом предмете в школе, к которому нужно подготовиться заранее. Тридцать первого августа мы втроем – я, отец и мать – вернулись, но Вадима дома не было. Завтра он должен был идти в школу, но никто из соседей его не видел неделю. Был вечер, в доме началась паника, мать с расширенными от ужаса глазами кричала на отца, упрекая его в беспечности по отношению к собственному сыну. Отец, притихший, ссутулившийся, обзванивал одноклассников Вадима, один из них, явившись к нам домой около полуночи, сообщил, что встретил брата неделю назад на троллейбусной остановке – Вадим с туристским рюкзаком садился в троллейбус. Я сидел в своей комнате, подрагивая от обрушившегося на меня чувства несправедливости: я был на втором месте, обо мне забыли, я словно не существовал. К чувству страха, неразрывно связанному с мыслью о брате, примешивалась обида – иногда мне хотелось, чтобы Вадим не вернулся, пропал навсегда. А в три часа ночи брат сам открыл ключом дверь и вошел, таща за собой рюкзак, в дом. Он был грязный, худой, с насмешливой улыбкой и торжественным счастливым блеском глаз. Отец спросил: «Ты где был?», а мать молча, сжав зубы, принялась хлестать брата подобранной половой тряпкой. Я приоткрыл дверь своей комнаты и видел, как он уворачивался, подставляя под удары спину – и при этом улыбался. «Ты смеешься, подлец, смеешься!» – шипела мать, стараясь ударить его по лицу.
Наконец отец вступился за Вадима и увел его из гостиной на кухню, где у них и состоялся разговор. Выяснилось, что брат с рюкзаком и палаткой отправился один в Крымские горы и прожил в лесу пять дней. Он прошел через Большой Крымский Каньон, забрался на Ай-Петри и через Ялту автостопом вернулся домой. На вопрос: «Зачем ты это сделал?» он ответил: «Нужно было».
Я же, недели через три, когда все забылось, узнал подробности. Я не мог не узнать – брат всегда чувствовал потребность совершить шаг назад, ко мне, поговорить и снова уйти. Может быть ему нравилось, что я маленький и могу слушать его только с восхищением. Может, его кровь все еще помнила обо мне. Он рассказал, что давно мечтал совершить одиночное путешествие в лес – и вот наконец его мечта осуществилась. Он только скрыл от родителей, что не взял с собой еды.
«Палатку я не раскладывал, – сообщил он, – огонь добывал с помощью увеличительного стекла. А самое главное, Влерик, – он торжественно посмотрел на меня, – у меня был запас продуктов, спички, сухое горючее, но я этим не воспользовался, понимаешь?» «А что ты ел?» – спросил я. «Ел? В лесу полно еды: ягоды, дикие груши, кизил, дичь, вода в речке, что еще надо?» «Дичь?» – удивился я. «Да, я охотился, – лаконично сообщил Вадим. – Силки для птиц – все это элементарно, Влерик».
Отец был добрее матери. Он редко повышал голос, ему нравилось рассказывать веселые случаи, анекдоты, он нечасто спорил и редко находил в себе силы для того, чтобы серьезно, решительно с кем-то поговорить. Он не любил одиночество, терпел любых гостей, а если ему все же случалось оставаться одному, не унывал, свыкался со своим положением и, бодро напевая любимую мелодию времен своей юности, делал какую-нибудь домашнюю работу, смотрел телевизор, читал газету или детектив. Характер матери был подобен вспышкам молнии во время солнечной погоды – если она злилась, то серьезно и жестоко, но потом что-то в ее душе переворачивалось, она могла стать задумчивой и лирически плаксивой. Она нравилась мужчинам, обожала внимание и стремилась изысканно, разнообразно одеваться.
Отец ничему не учил своих сыновей. Год за годом выяснялось, что я не умею ездить на велосипеде, не играю в шахматы, в карты, не умею кататься на лыжах и на коньках. Самым мучительным оказалось неумение плавать. Отец, с его веселой добротой, искренне удивился этому обстоятельству, когда мы впервые приехали в Одессу. Он принялся меня учить, но у меня ничего не получалось.
По-настоящему я перестал бояться глубины, когда, играя, мной занялся брат – он поднырнул под матрас, на котором я, сам того не заметив, отплыл очень далеко от берега. Брат с шумом взорвал подо мной воду, и я скатился с взгорбленного матраса, сразу почувствовав, что ноги не достают дна. Я так испугался, что даже не мог кричать, и только видел, как Вадим, завладев матрасом, спокойно уплывает прочь. Я беспомощно по-собачьи пенил под собой воду, с каждой секундой понимая, что сейчас утону. Еще надеясь на помощь, я изо всех сил вертел головой, а потом заплакал и стал тонуть, сразу удивившись, что это нелегко – тело, если расслабить ноги и руки, словно бы само держалось на воде. Все мои мысли смыло спокойным ужасом, и этот неторопливый, работающий как отлаженный механизм, страх начал двигать меня вперед, к берегу. Кое-как я добрался до мели и передохнул, стоя по горло в воде. Потом мне в лицо ткнулся край матраса, брат, брызгаясь, плавал рядом.
– Ну что, Влерик, – кричал он, – понял, что такое торпеды подводных лодок уриев?
В отличие от меня, научившегося играть лишь в шашки, брат все освоил самостоятельно. Лыжи, велосипед, коньки – все это он выучил сам, без помощи родителей, где-то в таинственной темноте своего отчаянного, круглого как пятерка, одиночества. Я помню случай с коньками. На зимних каникулах к нам домой пришла одноклассница Вадима, за чаем она пригласила брата в субботу на загородный каток – в том году впервые в нашем городе выдалась настоящая с морозами зима. Вадим пообещал прийти. В четверг он раздобыл в пункте проката ботинки с коньками, надел их и весь день, чертыхаясь, падал в своей комнате – я слышал его проклятия и, краснея, стыдился так же, как и он. А после двух ночи он тихо вышел из дома, его шаги слышал только я, сразу догадавшись, куда он пошел – на пустырь, где на небольшом поле, залитом льдом, днем мальчишки играют в хоккей. Брат вернулся поздно утром, с сияющим, красным от мороза лицом и с надменно сложенными губами – весь его вид говорил о том, что у него все в порядке, что не существует ни одной жизненной мелочи, способной ввергнуть его в неуверенность или стыд. Наблюдая за ним, я представлял, как все было. Вот он падает, вот он, стиснув зубы, выписывает, согнувшись, круги по безлюдной ледяной площадке – единственный человек в морозную безлунную ночь. Вот с рассветом приходит, подгоняемое первыми лучами солнца, умение, а с первыми прохожими прорезаются крылья, благодаря которым ты уже ничем не отличаешься от утренних конькобежцев – и только неестественный блеск глаз и тихий хохот внутреннего восторга все еще выдают тебя.
5
Осенью, когда я учился в четвертом классе, а Вадим заканчивал школу, в Донецке умер наш дед по отцу. Это случилось на ноябрьские праздники, когда мы всей семьей гостили у него дома, и поэтому все пошли на похороны, хотя отец не хотел, чтобы я смотрел. Запомнилось кладбище – серая, вязкая погода, мелкий дождь, пьяная неровность музыки оркестра, грязь и люди, которые даже не плачут, потому что кругом вода. Наконец музыка замолкла, и воцарилась шуршащая тишина, кто-то что-то говорил, объяснял, но я ничего не слушал, я смотрел на Вадима. По его бледному лицу текли струи воды, он болезненно ссутулился и, расширив глаза, смотрел на могилу, в которую опускали гроб. Потом он смотрел, как кидают лопатами охристую глину в яму – и я тоже смотрел. Через день, когда мы уехали, уже дома он, опять избрав меня своим слушателем, стал рассказывать, иногда задавая вопросы тоном, в котором исчезла прежняя надменность и появилась новая, тихая злость.
– Страшно умирать, а, Влерик? – спросил он. Я молчал, и он добавил:
– … а еще страшнее дожить до смерти.
Я растерянно пробормотал:
– Так жалко дедушку…
– Конечно, если вокруг столько родных собралось. А если бы, – Вадим резко взглянул на меня, – а если бы их не было рядом? И они не знали, что он умирает, тогда – жалели бы они его? А он бы в это время умирал, умирал, понимаешь, Влерик? В самом деле умирал, где-нибудь на другой стороне света. Ведь они бы слезинки не уронили. Они бы целовались и смеялись в эту самую минуту, когда он умирал, мать кричала бы на отца или на меня, тебя бы гладили по голове и говорили: «Талантище, наш талантище». А его бы несли и бросили в яму. Понимаешь, Влерик, в яму.
Брат посмотрел на меня, и я увидел в его глазах слезы. Но я не почувствовал теплоты. Он плакал о чем-то странном, даже не о себе.
– В мокрую склизкую яму швыряют, а потом тебя начинают есть черви. Ну уж нет, так ни за что не умру. Я долго молчал, ожидая, что он еще что-нибудь скажет. Потом спросил:
– Но что же делать?
Он отвернулся.
– Я еще не знаю. Пока. Но лучше утонуть, чем в яму.
Ночью мне приснился сон: тело брата, ровное и прямое, с закрытыми глазами и немым ртом опускается вниз в полупрозрачной неспокойной морской воде. Я наблюдаю за погружением и вдруг понимаю, почему все вокруг так зыбко – рыбы. Да, рыбы, бледные, поблескивающие чешуей, разные по величине и окраске морские создания сонно, не спеша подходят к брату, неподвижно стоят рядом, едва шевеля плавниками, а потом начинают медленными сонными рывками откусывать от него кусочки. Целый рой рыб вокруг, и он в хороводе тел, неподвижный и тихий. Я, не просыпаясь, закрываю во сне глаза и падаю в другой сон – там тоже рыбы; в третий, и так все дальше и дальше, лечу сквозь галереи снов, проходы в которых – все те же неподвижно разинутые пасти рыб. Мне хорошо, меня убаюкивает какая-то зыбь. Мне ясно, что брату тоже спокойно в хороводе существ, медленно кусающих его. Я понимаю, насколько в этом тихом глубоком мире чище и лучше, чем в яме, куда стекают струи дождя. Сон успокоил меня – впоследствии я меньше боялся смерти, думая о ней как о далеком существе, живущем, должно быть, в море. А может, есть две смерти? Земная, глиняная, отвратительная, и та, что в морской воде, чистая, не для всех людей. Позже, когда хоронили, и процессия перекрывала мне дорогу, я останавливался и смотрел, не ощущая в душе ничего, кроме задумчивой тишины.
Фронтовые успехи моих выдуманных народов стали меркнуть вместе с очаровательным солнцем детства, которое к пятому классу стало медленно заходить за горизонт. Наступало то время последней ночи, когда на следующий день взойдет уже новый диск и осветит землю таким болезненным печальным светом, что снова захочется спать и хотя бы во сне начать жизнь сначала. Понимая, я все же делал по-своему, стремясь продлить жизнь своей и так уже разросшейся фантазии. Я придумал, как строившие пирамиду египтяне, нечто новое, большое и последнее; я задумал придать своему миру форму, вылепив его из пластилина. Это были огромные, расположенные на фанерных полях ландшафты, которые я усеял пластилиновыми армиями, танками и броневиками, выстроил крепости, вырыл окопы.
Мои солдаты беспрерывно воевали, а потом, когда мне надоедало их двигать, я стал создавать застывшие картины – маленькие, с тысячей подробностей панорамы и звал брата, чтобы он посмотрел. «Смотри, – говорил я, – эта композиция называется «Отступление уриев», а эта, – рассказывал я через неделю, – «Последний штурм».
Брат, качая головой, делал замечания, а однажды принял участие: когда я вернулся из школы, то с восторгом обнаружил, что очередная панорама под названием «Бегство из города» стала другой. Изменился цвет, изменились позы бегущих из разрушенного города гипов. Брат, найдя в моей комнате краски, нарисовал почти реальную кровь – на бинтах из марли, на лицах солдат, на земле. Это было побоище, настоящая застывшая война, и вместе с восхищением я чувствовал неясный будущий испуг.
Я долго хранил панораму нетронутой, позже заменил ее новой. Но продолжал сочинять. Урии, так и не расправившись до конца с гипами, уже подумывали о нападении на Советский Союз, Китай, на Соединенные Штаты и другие реальные страны, чтобы подчинить их и сделать своими колониями. Готовились новые битвы, описывались важные переговоры, засылались шпионы с последующей поимкой и выдворением. Мои фантазии, чтобы оставить в живых самих себя, решили спастись уничтожением реального мира.
Брат все больше отдалялся – не только от меня, но и от наших общих сражений. Он все реже впускал меня в свою комнату, а если я, как раньше, открывал дверь, чтобы поговорить с ним о последних военных событиях, он зло смотрел на меня и тоном, от которого я вмиг замерзал, приказывал: «Закрой дверь». Он говорил негромко, с досадой, и я быстро исчезал, томясь его одиночеством, которое для него всегда было важнее, чем родители, дом, страна и может быть весь остальной мир. Иногда, когда он меня выгонял, я заставал его разговаривающим по телефону. Смутно чувствуя, что доигрывать мне придется одному, я бродил по дому, наступая подошвами домашних тапочек на разбросанных по всему дому пластилиновых солдат.

