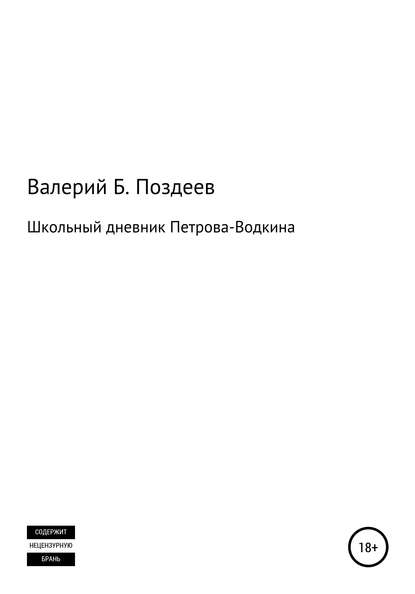 Полная версия
Полная версияШкольный дневник Петрова-Водкина
В классе насчитывалось 24 человека, но на физкультуру ходили не все. Кто-то был освобожден от физкультуры по причине хилого здоровья, кто-то сегодня отсутствовал в школе по причине болезни, а кто-то просто «отсутствовал без уважительной причины», так официально звучало обычное «прогуливал». На расчете Петров стоял в середине строя. Он мечтал поскорее вырасти, чтобы переместиться поближе к началу. Вряд ли, конечно, он обгонит дылду Рыбина, но быть вторым было бы здорово. Первые двое в строю набирают себе команды на игры и по умолчанию являются капитанами. Эта традиция, родившаяся когда-то во дворовых играх, почему-то перекочевала на урок физкультуры. «Скоро уже меня Ковалева по росту догонит», – сетовал про себя Петров. Все в классе подрастали с разной скоростью и каждый новый учебный год почти все места в строю обновлялись другими школьниками. Неизменным на первом месте оставался только Рыбин.
Юрий Николаевич отметил в журнале отсутствующих и вдруг увидел, что Петров стоит в строю в носках.
– Петров, что случилось, где твои кеды? – скорее удивленно, чем строго спросил Юрий Николаевич.
– Забыл дома сменку. Торопился утром, вот и забыл, – ответил Петров, стараясь не вдаваться в объяснения. На самом деле он проспал сегодня. Мать ушла на работу рано утром, еще когда он спал и, проснувшись, и поняв, что он опаздывает, Валька метался по квартире, запихивая в портфель все, что, казалось, могло пригодиться сегодня в школе. Кеды просто-напросто не попались ему под руку.
– Как же ты будешь в носках в пионербол играть? – иронично спросил Юрий Николаевич.
– Не знаю. А что сегодня пионербол? А пионербол – это вообще для девчонок, что там такого сложного играть? – нашелся Петров. Мальчишки захихикали.
«Шустрый малец», – подумал Юрий Николаевич.
– Белла Александровна с вами сегодня повторит правила игры после разминки, а потом будете играть в несколько команд навылет, – обратился он к классу. – А ты, Петров, будешь со мной работать сегодня индивидуально, в качестве наказания, – полушутя-полусерьезно добавил физрук. – Пойдем-ка со мной в тренерскую.
Всем было любопытно, что же придумал для Петрова физрук, но Белла Александровна начала разминку.
Громким названием «тренерская» называлась небольшая пристройка к спортзалу, где стоял учительский стол и хранились спортивные снаряды. На полу громоздились похожие на тыквы набивные мячи, на стене слева весели на крюках пузатые сетки с волейбольными и баскетбольными мячами, в углу пылились блины от штанги, на которых стоял кокон скрученной волейбольной сетки, придавленный грифом. На стенке справа была смонтирована стойка для лыж и лыжных палок, рядом стояла большая картонная коробка с лыжными ботинками. Пахло пылью, резиной, старыми ботинками и еще чем-то химическим. «Наверное, лыжная мазь», – подумал Петров.
– Подбери себе лыжи, – сказал Юрий Николаевич, – поможешь мне набить лыжню.
Накануне выпал снег, и Юрий Николаевич хотел проложить новую лыжню вокруг прудов. Одному было не очень удобно, надо было нести сумку с флажками для разметки, да и лыжные следы, оставленные на свежем снегу одним лыжником, были не очень глубокими для лыжни. Помощник из числа школьников был бы в самый раз. Петров обрадовался, что так кстати забыл сегодня кеды. Пройтись на лыжах по свежему снегу было куда приятнее, чем перебрасывать с девчонками мяч через сетку в холодном спортзале.
Петров хорошо помнил правила подбора лыж: лыжа, поставленная вертикально, должна доходить носком до середины ладони поднятой руки; лыжные палки должны доставать до подмышек. Валька порылся в ящике с ботинками, нашел связанную шнурками пару, подходящую по размеру, примерил ботинки к креплениям, потом померил оба ботинка. «Вроде нормально», – подумал он. Шнурок на одном ботинке был связан из двух половинок, но длины для шнуровки было достаточно и Валька не стал перешнуровывать ботинок. Юрий Николаевич писал что-то в классном журнале, краем глаза наблюдая за уверенными действиями Петрова.
– Ну что, готов? – спросил он, видя, что Петров закончил сборы.
– Готов.
– Ну пошли.
Юрий Николаевич размашисто скользил по снежной целине классических ходом, сжимая в левой руке обе лыжные палки и отталкиваясь ими в ритме шага. В правой руке он держал несколько флажков и периодически наклонялся, чтобы воткнуть флажок в снег. Петров попробовал было бежать в ритме и темпе физрука, однако это оказалось не просто. Он не успевал за Юрием Николаевичем, к тому же сумка со связками флажков, висевшая через плечо, перевешивала на одну сторону и била его в бок при каждом шаге. Валька быстро взмок и сбил дыхание. Но постепенно они приноровились к друг другу. Петров стал бежать в свою силу – медленнее, но более ритмично. Юрий Николаевич же, заметив, что Петров отстает, стал делать короткие остановки на каждом флажке, поджидая, когда подтянется Петров.
– Что, запыхался? – спросил Юрий Николаевич, когда Петров подъехал.
– Немного. Нормально, – Петров тяжело дышал, опираясь на палки.
– Давай мне сумку, – сказал Юрий Николаевич.
– Не, все нормально, – отрицательно помотал головой Петров. – Сейчас, отдышусь только.
– Сейчас на дамбу поднимемся, дальше вниз легче будет, – Юрий Николаевич видел, что Петрову нужна небольшая моральная поддержка.
С дамбы до самой школы путь лежал вниз и катиться под горку было гораздо легче. Да и сумка с флажками наполовину опустела и стала заметно легче. Петров немного расслабился и подумал, как там пацаны в спортзале сейчас: «Спорят, наверное, из-за каждого проигранного очка. Но у Беллы Александровны сильно не поспоришь. А проигравшие, наверное, на матах в углу валяются. Лентяи, лучше бы по канату полазали».
Лазать по канату Петров любил. Он всегда думал, откуда взялся в школе этот канат. Наверное, он был раньше швартовым на каком-то огромном пароходе. Лежал на корме, свернутый в бухту, и кто-нибудь из пассажиров на нем сидел, глядя на водовороты воды от винта и слушая крики чаек. А потом, когда пароход приставал к какой-нибудь пристани, усатый боцман дудел в свою боцманскую дудку и матросы разматывали канат, протягивали его через клюз и пришвартовывали пароход к огромному чугунному кнехту на пирсе. Вряд ли Петров мог сказать, откуда он знал все эти мудреные морские словечки, прочитал где-то, наверное.
«В кейптаунском порту с какао на борту «Жанетта» поправляла такелаж», – вспомнил он строчку из когда-то услышанной песни. «Этот канат много, где был, наверное, не только в Кейптауне», – размышлял Петров, – «В Сингапуре, в бурю», – выскочила вдруг строчка из другой песни. «А потом пароход сел на мель и заржавел. Боцман ушел на пенсию, а матросы по кабакам», – Петров представил, как матросы пропалывают поле с огромными кабачками. «А канат решили отдать в школу, пусть пацаны лазают. Ну, канат-то длинный, его порезали на кусочки, одного каната на десять школ хватит. А в Москве как же, там, наверное, тысячи школ? А у них канаты откуда?», – озадачился Петров. «Но пароходов ведь тоже тысячи. И военных кораблей, крейсеров там всяких, эсминцев. Они ведь тоже стареют, вот канаты и отдают в школы», – нашел он логичное объяснение.
– Все, Петров, приехали, – сказал Юрий Николаевич. За своими мыслями Петров не заметил, как они подошли к школе.
– Юрий Николаевич, а сколько километров мы сегодня сделали? – Петрова распирала гордость оттого, что он оказался полезен учителю физкультуры и бежал с ним почти наравне.
– Ну, я пять, а ты три, – ответил учитель с серьезным видом.
– Как это? – удивился Петров, – Мы же с вами вместе были.
– Ну ты же в облаках витал два километра, я заметил, – также серьезно продолжал Юрий Николаевич. – Да шучу, я, шучу, – засмеялся он, увидев, что Петров до сих пор озадачен.
– Пять километров лыжня. Минут за сорок мы с тобой справились. Неплохо, – похвалил учитель. – Спасибо за помощь. Лыжи поставишь в тренерскую и можешь идти. Протри их только от снега, чтобы лужа не натекла. И кеды не забывай в следующий раз, – напомнил физрук.
– Спасибо, Юрий Николаевич, – Петров был признателен учителю за похвалу. Да я в первый раз забыл сегодня. Проспал утром, торопился, – признался Петров.
– Ладно, бывает, – согласился Юрий Николаевич.
Петров поставил лыжи и палки на стойку в тренерской, переобулся, связал лыжные ботинки и бросил их в коробку. В спортзале было пусто и гулко. Канат одиноко висел в углу зала. Петров подошел к канату, схватился повыше, подтянулся, перехватил канат ногами и повисел немного, прижавшись щекой к канату и закрыв глаза. «Моряк вразвалочку сошел на берег, как будто он открыл пятьсот америк. Ну не пятьсот, так пять, по крайней мере. И все на свете острова он знал как дважды-два», – зазвучала в его голове знакомая песня. «Ах, море, море – волна под облака. Ах, море, море – не может жить, не может жить без моряка». Петров соскочил с каната, крутанул его напоследок и побежал домой.
Январь. География
– Тема сегодняшнего урока «Форма Земли», – написала на доске тему учительница географии Ада Васильевна. – Запишите в свои тетради тему урока, а заодно и домашнее задание – параграф 11, страницы 41-45.
– Давайте подумаем вместе, какой вы представляете себе Землю? – продолжала она.
– Грязной, – сразу нашелся Рыбин.
– Ха-ха-ха, – коротким смешком откликнулся класс.
– Ты имеешь ввиду – «загрязненной», Рыбин? – опрометчиво продолжила диалог учительница.
– Да нет, грязная. Когда в огороде что-нибудь делаешь, всегда весь грязный потом. А еще она липнет к лопате, вилам. А после дождя? Не пройти, не проехать, сплошная каша. – Рыбин знал, о чем говорил.
– Я поняла, Рыбин. Но я имею ввиду форму Земли. – Ада Васильевна надеялась, что объявленная в начале урока тема подскажет Рыбину правильный ход мыслей и Рыбина осенит.
Но Рыбина не осенило.
– Какая форма? Как насыплешь, такая и будет форма. Куча, гора. А можно еще в тачку насыпать. А там, где выкапывают будет яма или карьер какой-нибудь. – Рыбину было не понятно, о чем тут еще говорить.
Ада Васильевна поняла, что надо начинать издалека. Она рассказала о понятии «форма предмета» и перешла к древним представлениям об устройстве земли и мира.
Петров слушал ее и думал: «Ну что Земля плоская, это вряд ли. Космонавты же летают, видят сверху. Насчет китов и слонов древние люди были тоже не правы. Разве могут слоны или киты удержать такую большую землю. Это какие же слоны должны быть?»
Слонов и китов Петров видел только на картинках, как и космонавтов, впрочем. Он посмотрел в окно, пытаясь с третьего этажа рассмотреть шарообразность Земли. Но половину окна заслоняли ветки тополя, а в оставшуюся часть были видны труба масложиркомбината и холмы, окружающие Сердобольск.
«Что Земля круглая – это похоже на правду», – мысленно почти согласился с Адой Васильевной Петров. Объяснения учительницы казались ему логичными и убедительными. А рассказы про первые кругосветные путешествия выглядели вполне правдоподобно.
«Интересно, – подумал Петров, – а что если выйти из школы и идти все время в одну строну, например на запад, то ведь опять вернешься в школу. Только надо будет переплывать океаны и это займет много лет. Лет тридцать, наверное», – Петров представил как через тридцать лет он с длинной седой бородой, в очках и палочкой возвращается в школу, обойдя всю Землю. Никто его не узнает в школе, только Семыкина спрашивает: «Здравствуйте, вы, наверное, дедушка Петрова?»
– А сколько времени занимает кругосветное путешествие? – спросил Петров с места.
– Ну, не знаю, – не очень уверенно ответила Ада Васильевна. – Во времена Джеймса Кука и Лаперуза это занимало годы. Сейчас, наверное, месяцы. Как в книге Жюля Верна, где герой совершил кругосветное путешествие за 80 дней. А на самолете можно и за несколько дней.
– Ада Васильевна, а это правда, что аборигены съели Кука? – вспомнил Петров песню Высоцкого с одной из отцовских магнитофонных пленок.
– Как «съели»? – ахнула впечатлительная Ковалева со второй парты. – Зачем? Дикари какие-то. – Ковалева была готова расплакаться.
– Это достоверно не известно, – пыталась пригасить нежелательные эмоции учительница. – Ковалева, успокойся. Джеймс Кук был убит в стычке с коренным населением на Гавайях в 1779 году, это было почти двести лет назад. Туземцы в те времена были достаточно воинственны. Практически все географические открытия сопровождались жертвами из-за болезней и конфликтов с местным населением. Такова высокая цена, которую человечество заплатило за информацию и те знания, благодаря которым мы представляем сегодня как устроена и выглядит Земля.
Петров представил, как полуголые раскрашенные туземцы сидят с ложками вокруг костра, над которым висит большущий котел. В котле плавают эполеты, парик и сапоги капитана Кука. Зрелище было неаппетитное. «Фу», – скривился Петров.
Ада Васильевна между тем продолжала объяснять новую тему и упомянула, что в результате вращения вокруг своей оси земля немного сплюснута у полюсов и это установленный научный факт. Такая форма Земли называется эллипсоид.
«Почему же глобусе этого не видно?», – засомневался Петров. «Бракованный глобус, наверное в конце месяца сделан», – догадался он. «Дядя Володя, начальник гаража, говорил, что все, что сделано в конце месяца и в конце года обычно бракованное». Петров мог смело добавить «и в конце квартала», но что такое квартал, он вряд ли знал.
– Ада Васильевна, – поднял Петров руку, – а почему на глобусе не видно, что Земля сплюснута у полюсов?
– Потому что глобус – это модель Земли, но сильно уменьшенная модель, в пять миллионов раз. И при таком уменьшении эта сплюснутость практически не заметна, – с энтузиазмом объяснила Ада Васильевна.
Ответ учительницы Петрова явно не убедил. На его лице отразилось недоумение, но он промолчал.
– Существует еще одно представление о форме Земли, где в качестве поверхности используется уровенная поверхность. Эта форма Земли называется геоид. Поверхность геоида всегда перпендикулярна силе тяжести. Представьте себе поверхность океана в спокойном состоянии, проведенную под материками. Это и будет геоид, – выдала Ада Васильевна новую порцию знаний.
– Как это, океан под материком? – Рыбин был явно озадачен. – Там же песок и камни. Конечно, если глубоко копать, можно докопаться до воды, мы с отцом копали колодец во дворе, я знаю. Но это же пресная вода, а не соленая, как в море.
– Ну, представьте, что нет материков, – учительница начала немного нервничать.
– Если нет материков, тогда океан растечется по всей поверхности, – Рыбин пытался представить устройство мира без материков. – А где люди будут жить тогда? А звери, а деревья? Тогда мы все утонем.
– Кошмар, – побледнела Ковалева.
– Это теоретическая модель Земли, – пыталась взять контроль над ситуацией Ада Васильевна. – Откройте учебник на странице 42, параграф 11, рисунок 2. Посмотрите, на рисунке линиями разного цвета наглядно показаны существующие представления о форме Земли.
Дома после уроков Петров снял со шкафа старый глобус, сдул с него пыль и покрутил. Глобус был немного продавлен на Рыбинском водохранилище. «Везет Рыбину, в честь него целое водохранилище назвали», – с некоторой долей зависти подумал Петров. Он нашел пятно Валдайской возвышенности и прикинул примерно посередине между Тверью и Смоленском, где находится Сердобольск.
Петров открутил металлическую гайку с северного полюса, снял глобус с оси и посмотрел через дырку на полюсе внутрь глобуса, пытаясь что-нибудь разглядеть: «Ничего не видно». Глобус был сделан из картона и Петров решил, что можно его немного усовершенствовать. Он достал старые тяжелые ножницы из маминой швейной машинки и старательно надрезал глобус по меридианам на обоих полюсах. Потом ладонью прижал глобус к столу. «Вот сейчас сплюснутость у полюсов гораздо заметнее», – отметил он. Он подклеил канцелярским клеем лоскуты глобуса, чтобы зафиксировать новую форму и проковырял ножницами новые дырки на полюсах. Насадил усовершенствованный глобус на ось, прикрутил гайкой и повертел. «Так-то гораздо лучше», – оценил он свою работу. «Настоящий эллипсоид вращения получился».
Петров подумал, что это не совсем справедливо, что вот имя Рыбина увековечено на глобусе, а его нет. Он опять повертел глобус, но подходящего объекта не нашел. Вдруг он обратил внимание, что в результате его усовершенствований Антарктида превратилась из материка в небольшой по размерам остров. Он послюнявил химический карандаш, написал на малюсенькой Антарктиде «о. Петрова» и удовлетворенно хмыкнул.
«Надо еще в честь Семыкиной что-нибудь назвать. Она все время за меня переживает», – подумал он, с благодарностью вспомнив свою соседку по парте. Петров покрутил глобус, нашел подходящий город и переименовал его химическим карандашом – «Семыпалатинск».
Февраль. Труд
Приближалось 23 Февраля – День Советской Армии и Флота и к этому празднику в школе ежегодно была приурочена военно-патриотическая игра «Зарница». В программу игры обычно входили смотр песни и строя, пулевая стрельба, полоса препятствий и ориентирование на местности с «элементами тактического боестолкновения», как было сказано в вывешенных на доске расписания правилах. В судейский состав входили завуч, военрук, физрук, старшая пионервожатая и муж географички – командир роты из местной воинской части, которая каждый год помогала с организацией. Игра проходила в разных возрастных категориях, и для пятых классов это была первая в их жизни «Зарница». По правилам класс должен был представить команду на каждый из видов соревнований – по пять человек на полосу препятствий и ориентирование, три на стрельбу и не менее 75% от списка на смотр строя и песни. Это означало, что на смотр строя и песни 5-му «Б» надо было выставить не менее 18 человек и еще это означало, что в команду придется включать девчонок, потому что нужного количества пацанов явно не хватало.
На переменах группки мальчишек возбужденно обсуждали предстоящие соревнования: «Ну какая «Зарница» с девчонками? От них толку никакого, одна обуза. Ну, может, только медсестрами их можно взять». Девчонки группками тоже о чем-то перешептывались, изредка поглядывая в сторону пацанов. На классном собрании, однако, было решено, чтобы никому не было обидно, в смотре строя и песни будет принимать весь класс, кроме отсутствующих по уважительной причине. А на стрельбу, полосу препятствий и ориентирование войдут самые меткие, ловкие и сообразительные. Есть еще две с половиной недели, чтобы подготовиться и сформировать команды.
– Татьяна Петровна, – спросил Рыбин классную руководительницу на классном часе, – А как же мы на смотре строя и песни будем шагать без оружия? Нам же нужны какие-то винтовки, а лучше автоматы.
– Тебе, Рыбин, пушку надо, – пошутил Петров, имея ввиду комплекцию Рыбина. – Ты ее один утащишь. Но про себя Петров подумал: «Шутки шутками, но как же без оружия на «Зарнице»? Это ведь военно-патриотическая игра, военная. Значит обязательно надо оружие».
Придя домой после школы, Петров достал из-под своей кровати маленький чемоданчик-балетку, в котором хранил свои сокровища. «Давно сюда не заглядывал, с лета, наверное», – подумал Валька, протирая пыль с балетки. Он перебрал свои сокровища: плоский камень с южного берега Крыма с наросшим известковым домиком какого-то морского животного и высохшими присосками водорослей; самодельная лупа, выточенная из осколка кривого прозрачного стекла; плоская круглая металлическая банка из-под халвы с кусочками канифоли и оловянным припоем; короткий и толстый патрон от строительного пистолета, найденный Петровым на какой-то стройке; маленькая коробка магнитных шахмат, в которой не хватало двух белых пешек; несколько десятков солдатиков в картонной коробке – серые оловянные фигурки красноармейцев с винтовками и зеленые русские витязи с щитами и мечами лежали вперемежку с пластмассовыми, машущими саблями, красными всадниками времен гражданской войны.
В числе других сокровищ были старый складной перочинный нож со сточенным основным лезвием и отломанным штопором и плоский фонарик под квадратную батарейку. Петров пощелкал переключателем, однако фонарик не подавал признаков жизни. «Батарейка, похоже, села. Хорошо еще, что не потекла», – подумал Петров и отложил фонарик в сторону, чтобы позже заменить батарейку. В балетке также хранились два игрушечных пистолета – пластмассовый Вальтер с поломанным спусковым крючком – Петров выменял его у Рыбина на десять красноармейцев, – и металлический ТТ, стрелявший пистонами, который мать купила ему на день рождения несколько лет назад. И хотя ТТ выглядел как новый, и в него даже была заряжена лента пистонов, брать его в школу было уже не прилично – только первоклашки стреляют пистонами. «Да, не густо», – подумал Петров. Проблему оружия надо было как-то решать.
Похоже было, что вопрос Рыбина на классном собрании достиг цели – проблемой оружия были озабочены не только ученики, но и их классные руководители. На школьном педсовете решили, что для «Зарницы» школьники должны будут самостоятельно изготовить деревянные автоматы на уроках труда. Учителю труда Сергею Дмитриевичу, всегда ходившему по школе в черном рабочем халате поверх старенького костюма и с простым карандашом за ухом, было дано поручение подобрать материал и организовать уроки труда соответствующим образом. «Можете взять в помощь старшеклассников», – сказала завуч. «Автоматы, так автоматы», – трудовику было все равно, что выпиливать и выстругивать со школьниками на уроках труда, – табуретки-ли, автоматы-ли, – без разницы.
Первыми уроками в четверг были сдвоенные уроки труда. Было еще темно, когда Перов подходил к зданию школьных мастерских, но по свежему снегу уже была протоптана тропинка и в коридоре горел свет. Помещения столярной и слесарной мастерских, а также класс домоводства, где девчонки учились шить и готовить, были еще закрыты. В коридоре стояли две группки: девчонки склонились вокруг Ковалевой, листая подшивку журнала «Крестьянка» и обсуждая кулинарные рецепты и прошлогодние фасоны платьев, пацаны же сгрудились вокруг Рыбина, который хвастался деревянным пистолетом, вырезанным с такой точностью, что, казалось, можно было без труда заменить его обойму, передернуть затвор и перещелкнуть предохранитель.
– Где взял? – только и смог выдохнуть Петров, стараясь скрыть зависть. Пистолет был и правда хорош. Мечта любого пионера.
– Зеки сделали за две пачки чая, – подчеркнуто равнодушно ответил Рыбин. Отец Рыбина работал прорабом в строительном управлении и часто имел дело с расконвоированными зеками, которые работали на стройках.
Пришел Сергей Дмитриевич и открыл столярную мастерскую. Девчонки остались в коридоре поджидать свою учительницу.
Большое помещение мастерской было заставлено по периметру деревообрабатывающими станками: токарным, сверлильным, фуганком и огромным столом с циркулярной пилой. В центре, на удобном для работы расстоянии друг от друга, стояли видавшие виды деревянные верстаки со следами пил и рубанков и пятнами краски. На стенах висели ножовки, лучковые пилы и угольники. В нескольких, покрытых тонкой древесной пылью, шкафах хранились рубанки, киянки, рулетки, ручные дрели, стояли банки с казеиновым клеем и коробки с гвоздями и шурупами. Стены были завешены плакатами по технике безопасности и инструкциями по работе на станках. За широкой дверью в дальнем углу находилась пристройка, почти полностью забитая досками, брусками разной толщины и листами фанеры.
Столярная мастерская нравилась Петрову гораздо больше, чем слесарная. В слесарной пахло кислым железом и ржавчиной, и она казалась какой-то совершенно неприветливой со своими тяжелыми и громоздкими инструментами: наковальнями, зубилами, молотками и ножницами по металлу. Резкие и громкие звуки металла по металлу во время работы заставляли почти кричать при разговоре. От всего это работа в слесарной мастерской казалась вынужденным преодолением чего-то неприятного и поэтому вряд ли могла приносить удовольствие. В столярной было светло и просторно, пахло деревом и клеем, пыль была чистая и легко отряхивалась, и даже громкий и резкий звук циркулярки не перекрикивал, а скорее дополнял какофонию голосов школьников и ручных инструментов по дереву, и поэтому совсем не раздражал, а наоборот создавал звуковой фон для сосредоточенной работы.
Трудовик повесил на доску плакат с автоматом АК-47 в разрезе, позаимствованный в кабинете начальной военной подготовки.
– Петров, вот тебе калька, – достал он из шкафа рядом с учительским столом рулон карандашной кальки, – Сделай трафареты с плаката, а мы пока подберем материал для работы. – Сергей Дмитриевич взял несколько человек и пошел с ними в пристройку перебирать доски.
Сделать трафареты было делом нехитрым. Петров отмотал кусок кальки от рулона, прикрепил кальку скрепками к плакату и жирным карандашом перенес контур автомата на кальку. Получился легко узнаваемый контур АК-47. Затем он вырезал трафарет из кальки, перенес его на старую газету, обрисовал и вырезал из газеты рабочий трафарет, который уже можно было обрисовывать на подходящей по ширине доске. Минут через пятнадцать десяток трафаретов был готов.



