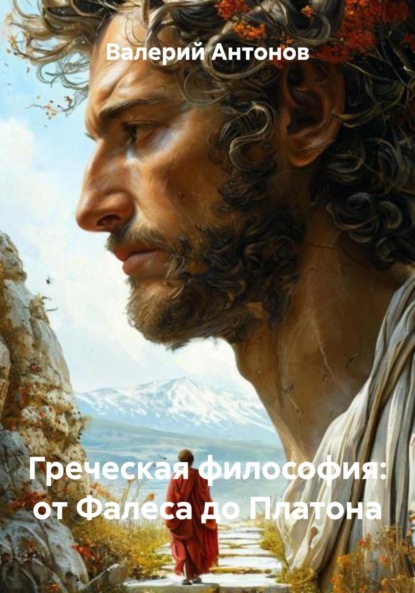
Полная версия:
Греческая философия: от Фалеса до Платона
Член 8, представляющий ноту парамесы, является средним гармоническим (ἁρμονικὴ μεσότης), который в ранней традиции назывался «подобным» или «субконтрарным» (ὑπεναντία). Он превышает меньший крайний член и уступает большему на одну и ту же долю этих крайних членов: 8 = 12 – (12/3) = 6 + (6/3).
Открытие этих средних величин предлагает новое решение старой милетской проблемы противоположностей. Согласно реконструкциям, основанным на фрагменте Анаксимандра, любое нарушение равновесия между противоположностями (например, горячим и холодным, сухим и влажным) рассматривалось как «несправедливость» (ἀδικία), которая должна быть «искуплена» в установленный срок. Это предполагает существование некоего справедливого равновесия, точки, которая была бы «честной» по отношению к обеим противоположностям. Однако Анаксимандр не обладал средством для точного определения этой точки.
Открытие средних величин в музыке предлагало именно такой метод. Оно позволяло предположить, что равновесие заключается в точном, численно определяемом «смешении» (κρᾶσις) противоположностей, подобно тому, как высокое и низкое в звукоряде порождают гармонические интервалы через определённые числовые отношения. Подобная аналогия была естественна для греческой культуры, где на пирах виночерпий смешивал вино с водой в большом кратере (κρατήρ) в строго определённых пропорциях перед тем, как разлить гостям. Этот образ вселенского смешивания был позднее использован Платоном в «Тимее», где Демиург создает Мировую Душу, смешивая элементы в некоем подобии кратера.
Таким образом, пифагорейское открытие обладало глубочайшим космологическим значением. Если Пифагор смог найти правило для гармоничного сочетания таких неуловимых противоположностей, как высокое и низкое в звуке, значит, был открыт секрет и всего мироздания. Вселенская гармония (ἁρμονία) понималась не как метафора, а как реальный, математически выразимый порядок, в котором противоположности примиряются через числовые отношения, выступающие в роли предела (πέρας), налагаемого на беспредельную аморфную потенциальность (ἄπειρον). Этот принцип, открытый в акустике, стал универсальной парадигмой для объяснения любого упорядоченного единства, возникающего из множественности и противоборствующих сил.
§ 32. Расширение звукоряда и концепция «видов октавы» (εἴδη τοῦ διὰ πασῶν).Существует аспект, полное значение которого проявится в дальнейшем, но который необходимо затронуть здесь. Очевидно, что октахордный (восьмизвучный) звукоряд мог быть расширен путём добавления одного или нескольких тетрахордов на обоих его концах. Такое расширение делало возможным построение октавных звукорядов, в которых последовательность больших и малых интервалов оказывалась иной. Приблизительное представление об этом можно получить, играя гаммы только на белых клавишах фортепиано, каждая из которых представляет собой различное расположение тонов и полутонов.
К счастью, для текущего исследования нет необходимости углубляться в сложный и до сих пор дискуссионный вопрос о соотношении этих так называемых «видов октавы» (εἴδη τοῦ διὰ πασῶν) с теми «ладами» или «гармониями» (ἁρμονίαι, τρόποι), которые часто упоминаются в греческих источниках. Современная музыкальная наука (напр., исследования в духе M. L. West, Ancient Greek Music) признаёт, что эта проблема ещё не получила удовлетворительного решения, и детальная реконструкция греческих ладов остаётся гипотетической.
Для настоящего анализа важно следующее: эти различные звукоряды назывались «видами» или «формами» (εἴδη) именно потому, что они различались внутренней структурой, то есть конкретным порядком и величиной интервалов внутри октавы. На это прямо указывает авторитет Аристоксена. Данный терминологический выбор имеет фундаментальное значение для пифагорейской и платонической философии. Понятие «эйдоса» (εἶδος) как устойчивой, структурированной и умопостигаемой формы, противопоставляемой аморфной материи, находит здесь одно из своих ранних и наглядных воплощений. Каждый «вид октавы» представляет собой уникальный, но закономерный способ, которым Предел (πέρας) – в виде фиксированных математических соотношений – организует беспредельную звуковую непрерывность (ἄπειρον) в конкретную, узнаваемую структуру. Таким образом, музыкальная теория предоставляет модель для понимания того, как единый принцип порядка (логос) может проявляться в множестве различных, но равно совершенных «форм».
Медицина.
§ 33. Принцип гармонии и равновесия в пифагорейской медицине.В области медицины также приходится иметь дело с «противоположностями» (ἐναντιώσεις), такими как горячее и холодное, влажное и сухое. Задача врача заключается в достижении правильного «смешения» (κρᾶσις) этих начал в человеческом теле. В известном пассаже из «Федона» Платона (86b) Симмий сообщает, что пифагорейцы считали тело настроенным подобно инструменту на определённый лад, где горячее и холодное, влажное и сухое занимают место высокого и низкого в музыке. Согласно этому воззрению, здоровье представляет собой состояние строя, или гармонии (ἁρμονία), в то время как болезнь возникает из-за чрезмерного натяжения или ослабления этих «струн». Отголоском этой концепции является современное употребление термина «тонизирующее средство» как в медицине, так и в музыке.
Медицинская школа Кротона, представленная для нас фигурой Алкмеона, основывала свою теорию на сходном учении. Согласно Алкмеону, здоровье зависело от «равновластия» (ἰσονομίη) противоположностей в теле, а болезнь была следствием чрезмерного преобладания (μοναρχία) одного из них. Неудивительно поэтому, что Алкмеон тесно ассоциировался с пифагорейцами и посвятил свой медицинский трактат некоторым видным членам этого сообщества. Здоровье, таким образом, понималось как «гармония», обусловленная надлежащим смешением противоположностей, и аналогичное объяснение распространялось на многие другие факторы, находящиеся в поле зрения врача, в особенности на диету и климат. Само слово «смешение» (κρᾶσις) использовалось как для обозначения телесного сложения (temperament), так и для характеристики температурного режима, отличающего один климат от другого. Даже современное понятие «умеренности» (temperance) в еде и питье уходит своими корнями в пифагорейскую почву.
Термин, переведённый выше как «вид» или «форма» (εἶδος), неоднократно встречается в литературе V века до н.э. в контексте обсуждения болезней и смерти. Как было отмечено исследователями, он часто появляется в тесной связи с глаголом καθίστασθαι и производным от него существительным κατάστασις, которые также имели техническое значение в античной медицине, обозначая установившееся состояние организма, в частности, его индивидуальную конституцию. В свете теории «видов октавы», рассмотренной выше, подобное словоупотребление представляется глубоко закономерным. Противоположности, от которых зависят здоровье и болезнь, могут сочетаться в различных моделях или конфигурациях. Вариативность таких моделей, по сути, и объясняет различия между индивидуальными конституциями (καταστάσεις) пациентов. Таким образом, каждый конкретный тип телосложения или патологического состояния можно рассматривать как уникальный «эйдос» – структурированное соотношение сил, возникающее в результате наложения предела (числовой гармонии) на беспредельную изменчивость физиологических процессов.
Числа.
§ 34. От конкретных средних к универсальному принципу: число как сущность космоса.Обнаружив, что музыкальный строй и здоровье представляют собой средние величины (μεσότητες), возникающие в результате наложения Предела (πέρας) на Беспредельное (ἄπειρον), и что результатом этого процесса является формирование определённых «видов» (εἴδη) или структур, Пифагор с необходимостью был подведён к поиску аналогичных принципов в устройстве мира в целом. Милетские философы учили, что все вещи возникают из Беспредельного, хотя и давали различные его трактовки. Анаксимен отождествлял его с «воздухом» (ἀήρ), объясняя образование конкретных форм процессами разрежения и сгущения, при этом преимущественно рассматривая «воздух» в качестве некоего парообразного или туманного начала.
Пифагор, судя по всему, подходил к этому понятию с иной стороны. Согласно реконструкциям, основанным на более поздних свидетельствах (напр., у Аристотеля, Метафизика, 986a), пифагорейцы, или некоторые из них, отождествляли «воздух» с пустотой (κενόν). Это положение знаменует собой начало, хотя и не более чем начало, формирования концепции абстрактного пространства или протяжённости (διάστημα). Главной же проблемой, интересовавшей Пифагора, насколько можно судить, был вопрос о том, каким образом это беспредельное начало становится ограниченным, чтобы предстать в виде упорядоченного космоса, доступного познанию.
Яркое подтверждение этому взгляду обнаруживается во второй части поэмы Парменида, если принять (как у нас есть основания полагать), что она содержит очерк пифагорейской космологии. Там две «формы» (μορφαί), которые люди ошибочно приняли за первоначала, – это Свет и Тьма. В ту эпоху Тьма ещё рассматривалась как некая положительная сущность, а не просто как отсутствие света, и «воздух» тесно с ней ассоциировался. В платоновском «Тимее» (58d), который, несомненно, отражает традиционные пифагорейские воззрения, и туман, и тьма рассматриваются как разновидности «воздуха». Примечательно, что Свет и Тьма включены в знаменитый пифагорейский список «противоположностей», где они соотносятся с категориями Предела и Беспредельного соответственно. Это отождествление раскрывает онтологический статус этих начал: светлое, тёплое и сухое ассоциируется с определяющим, структурирующим началом Предела, в то время как тёмное, холодное и влажное – с неопределённой, пассивной потенциальностью Беспредельного. Таким образом, космология предстаёт как грандиозный процесс упорядочивания, где математические отношения, выявленные в музыке и медицине, выступают в роли универсального закона, превращающего хаотическую протяжённость в гармоничный и соразмерный универсум.
§ 35. Визуальная арифметика пифагорейцев: числа как геометрические фигуры.Изложение учения Пифагора сводится к тому, что всё есть число. Для осмысленного понимания данного утверждения необходимо чётко представлять, что подразумевалось под термином «число». Достоверно известно, что в ряде фундаментальных случаев ранние пифагорейцы изображали числа и объясняли их свойства с помощью точек, организованных в определённые «фигуры» или геометрические паттерны. Этот метод, безусловно, архаичен, поскольку аналогичный принцип используется с древнейших времён, например, в маркировке игральных костей.
Наиболее знаменитой из этих пифагорейских фигур была тетрактида, которой члены Ордена даже приносили клятвы. Она наглядно демонстрировала ключевое, с точки зрения пифагорейцев, свойство числа десять – его представление в виде суммы первых четырёх натуральных чисел (1 + 2 + 3 + 4 = 10). Очевидно, что данную фигуру можно было расширять до бесконечности, и она фактически служила визуальной формулой для сумм рядов последовательных натуральных чисел, образующих так называемые треугольные числа: 3, 6, 10, 15, 21 и так далее.
Далее, в источниках упоминаются квадратные и продолговатые числа. Квадратное число, как и в современной математике, определялось как произведение двух равных множителей, в то время как продолговатое число – как произведение неравных множителей. Визуальное представление этих чисел позволяет сразу сделать важные наблюдения: последовательное добавление нечётных чисел в форме гномона порождает квадратные числа (4, 9, 16 и т.д.), тогда как последовательное добавление чётных чисел порождает продолговатые числа (6, 12, 20 и т.д.). Хотя можно было бы аналогичным образом исследовать свойства кубических чисел, точная степень продвижения Пифагора в этом направлении остаётся неясной.
Ключевым аспектом является то, что все эти фигуры представляют собой суммы рядов различного типа. Ряд натуральных чисел даёт треугольные числа, ряд нечётных чисел – квадратные, а ряд чётных чисел – продолговатые. Как отмечал Аристотель, форма квадратных чисел всегда остаётся неизменной (соотношение 1:1), в то время как каждое последующее продолговатое число обладает уникальной формой. Эти математические соотношения, как подчёркивается в современных исследованиях, такие как работа «The Shaping of Deduction in Greek Mathematics», напрямую коррелировали с теорией музыкальной гармонии, поскольку находили точное соответствие в консонантных интервалах октавы.
Сведения об этой системе происходят главным образом от неопифагорейских авторов, которые считали «фигурное» представление чисел более «естественным», чем стандартная буквенная нотация. Однако, как свидетельствует Аристотель в своих трудах, эти концепции были известны уже в классический период, что позволяет с уверенностью отнести их к истокам пифагорейской науки. Несмотря на повсеместное внедрение арабской (индийского происхождения) системы счисления, так называемые фигурные числа пережили Средневековье, и сам термин продолжает использоваться, хотя и в более узком смысле. Примечательно, что в английском языке сохранилось название «figures» (цифры), которое теперь применяется к арабской нотации, тогда как в других языках закрепилось производное от арабского «sifr» (ноль). Эта историко-лингвистическая преемственность, как отмечается в исследованиях по истории математики, таких как «The Universal History of Numbers», подчёркивает глубокую связь между визуальным представлением чисел и их абстрактным пониманием.
§ 37. Проблема построения сферы и открытие несоизмеримости.Проблема построения сферы, по-видимому, решалась через рассмотрение додекаэдра, который среди всех правильных многогранников наиболее близко приближается к сфере. Сторона додекаэдра представляет собой правильный пятиугольник, для построения которого требуется деление отрезка в крайнем и среднем отношении, так называемое «золотое сечение» (Евклид, «Начала», II. 11). Это вводит ещё одну «несоизмеримую величину», и существуют свидетельства, что данная величина также играла важную роль в качестве одной из пифагорейских тайн. Для её построения использовалась пентальфа (названная так по своей форме) или пентаграмма, которую пифагорейцы, согласно преданиям, прилагали к своим письмам. Данный символ впоследствии длительное время продолжал использоваться в магических целях, что прослеживается в «Фаусте» Гёте и других произведениях. Согласно традиции, Гиппас считается тем, кто разгласил пифагорейские секреты: по одной версии, был утоплен в море за разглашение несоизмеримости стороны и диагонали квадрата, по другой – за публикацию построения правильного додекаэдра. Данный случай является примером того, как традиция сохранила память о реальном и важном событии.
Математическая и философская значимость золотого сечения и додекаэдра.
Золотое сечение, или деление отрезка в крайнем и среднем отношении, представляет собой иррациональное число, приблизительно равное 1.618. Его открытие выходило за рамки чистой математики, затрагивая философские основы пифагореизма. Согласно исследованиям, изложенным в работе «The Pythagorean World: Why Mathematics Is Unreasonably Effective In Physics», пифагорейцы видели в числовых соотношениях основу мировой гармонии. Открытие иррациональных величин, таких как отношение диагонали квадрата к его стороне или золотое сечение, поставило под сомнение их фундаментальную доктрину, согласно которой «всё есть число» и все величины могут быть выражены отношениями целых чисел. Это был не просто математический парадокс, а глубокий мировоззренческий кризис.
Сакральный статус додекаэдра и пентаграммы.
Конструкция додекаэдра, основанная на пентаграмме, имела особый сакральный статус. Как отмечается в монографии «A History of Greek Mathematics», додекаэдр ассоциировался со сферой вселенной или космосом в целом. Совершенство его формы, состоящей из двенадцати правильных пятиугольников, символизировало космический порядок. Пентаграмма, или пентальфа, будучи самовписанной и самопересекающейся фигурой, считалась символом здоровья и мистического совершенства, а её использование в переписке, вероятно, служило опознавательным знаком для членов общины. Разглашение секрета построения этой фигуры приравнивалось к раскрытию божественной тайны мироустройства, что и объясняет суровость предполагаемого наказания для Гиппаса.
Историко-научный контекст предания о Гиппасе.
Предание о судьбе Гиппаса, утонувшего в море за разглашение тайн, является символическим отражением интеллектуального и социального конфликта внутри ранней науки. Современные историки науки, как, например, в работе «The Shaping of Deduction in Greek Mathematics», интерпретируют этот миф не как буквальное описание событий, а как нарратив, кодирующий реальные исторические процессы. Изгнание или осуждение Гиппаса могло быть следствием борьбы между различными направлениями внутри самого пифагореизма – между эзотерической, мистической традицией, стремившейся сохранить знания в тайне, и зарождающейся рационально-доказательной традицией, которая впоследствии нашла своё завершение в «Началах» Евклида. Таким образом, история о Гиппасе сохраняет память о ключевом переходном моменте, когда абстрактная математическая истина начала утверждать свой приоритет над религиозно-общинными табу.
§ 38. Применение музыкальных интервалов к небесным сферам.Естественным развитием открытия Пифагора стало его применение к небесным телам. Существует высокая степень вероятности, что промежутки между тремя колесами Анаксимандра отождествлялись с квартой, квинтой и октавой. Данное предположение дает наиболее естественное объяснение доктрине, широко известной под несколько вводящим в заблуждение названием «гармония сфер». Отсутствуют основания полагать, что концепция небесных сфер существовала до Евдокса, вся совокупность свидетельств указывает на вывод о сохранении пифагорейцами колец или колес Анаксимандра. Указанные представления встречаются во второй части поэмы Парменида, а также в мифе об Эре в «Государстве» Платона. Необходимо учитывать, что понятие «гармонии» в данном контексте не подразумевает современное значение слова, а относится исключительно к консонансным музыкальным интервалам, которые воспринимались как выражение мирового закона. Эти интервалы формируют концепцию «формы» как коррелята «материи», причем форма всегда в определенном смысле представляет собой среднее. Указанная концепция является центральной для всей греческой философии вплоть до её позднего периода, и можно утверждать, что с этого момента её развитие определяется идеей αρμονία, или настройки струны.
Космологическая модель Анаксимандра и её пифагорейская адаптация.
Согласно реконструкциям, представленным в исследованиях по античной космологии, таких как работа «The Music of the Pythagoreans», модель Анаксимандра предполагала существование концентрических огненных колец или ободов, скрытых внутри воздушной оболочки, с отверстиями, через которые виден огонь – это и есть светила. Пифагорейцы, переняв эту структуру, наполнили её новым математическим содержанием. Расстояния между этими кольцами – Солнца, Луны и звезд – были соотнесены с основными консонансами, выведенными из монохорда: октавой (2:1), квинтой (3:2) и квартой (4:3). Как отмечается в монографии «Pythagoras and the Early Pythagoreans», это не была «гармония» в смысле мелодии, а фундаментальный принцип порядка и соразмерности (logos), зримо и слышимо проявляющийся в устройстве космоса. Таким образом, небесные тела не «звучали», а их расположение и движение подчинялись тем же вечным и неизменным математическим пропорциям, что и созвучные музыкальные интервалы.
Философская сущность αρμονία как космического принципа.
Понятие αρμονία (гармонии) у пифагорейцев, как разъясняется в трудах по древнегреческой философии, например, в «The Architecture of the Cosmos», было фундаментальным онтологическим принципом, означающим соединение или со-прилажение противоположностей (предела и беспредельного, нечетного и четного) в прекрасный и упорядоченный космос. Музыкальная метафора была лишь наиболее наглядным выражением этого универсального закона. Консонансный интервал, возникающий из строгого числового отношения, являлся идеальным воплощением «формы», налагаемой на аморфную «материю» – протяженность или воздушные кольца в модели Анаксимандра. Эта «форма» математически понималась как среднее (μεσότηϛ), или пропорция, которая уравновешивает и связывает крайние члены. Данная идея, как подчеркивается в историко-философских исследованиях, действительно стала центральной для всей последующей греческой мысли: от платоновской трактовки мировой души, устроенной согласно музыкально-математическим пропорциям, до аристотелевского учения о средней добродетели как середине между пороками. Доминирование идеи настройки струны как парадигмы для понимания мироустройства утвердило математику в качестве языка для описания фундаментальных структур реальности.
3. Гераклит и Парменид
Гераклит. § 39. Личность и учение Гераклита Эфесского.«Тёмный» философ: личность, стиль и исторический контекст.
Фигура Гераклита позволяет в полной мере оценить значение личности в формировании философских систем. Стиль сохранившихся фрагментов¹ является уникальным для греческой литературы – афористичный, насыщенный метафорами и парадоксами, – что и принесло мыслителю в более поздние времена эпитет «Тёмный» (ὁ σκοτεινός). Его собственный стиль осознаётся как пророческий и оракульский, что находит оправдание в примере Сивиллы (фр. 92) и бога в Дельфах (фр. 93), который «ни говорит, ни скрывает, а знаменует». Здесь прослеживается влияние так называемого пророческого движения VI века до н.э., хотя без дополнительных оснований нельзя утверждать о его прямом воздействии на другие аспекты учения. Центральная идея философии Гераклита по своей сути проста и поддаётся извлечению из окружающей её оболочки загадочных высказываний. Однако результатом такой операции не может быть полное описание мировоззрения мыслителя, масштаб которого не вмещается в узкие формулы.
Аристократ из Эфеса: социальное положение и политические взгляды.
Дата жизни Гераклита приблизительно определяется упоминанием в прошедшем времени Гекатея, Пифагора и Ксенофана (фр. 40), а также наличием возможных аллюзий на его учение у Парменида. Это указывает на период его расцвета (акме) около 500 г. до н.э., то есть на рубеж VI-V веков до н.э. Будучи знатным эфесцем, Гераклит, по-видимому, принадлежал к роду, где наследственной была древняя должность басилея (к тому времени, несомненно, религиозная), поскольку сохранились сведения о её передаче брату. Его политическая позиция раскрывается в цитате (фр. 121): «Следовало бы всем взрослым эфесцам повеситься и оставить город несовершеннолетним, ибо они изгнали Гермодора, мужа наиполезнейшего среди них, заявив: "Пусть не будет среди нас никто наиполезнейшим; а коли такой найдётся, то пусть будет он в другом месте и среди других"». Данное высказывание не оставляет сомнений в аристократических убеждениях философа, его принципиальной оппозиции демократии и предельном презрении к черни (ὄχλος), которую он считал неспособной к разумению.
Предельная требовательность мысли: критика предшественников и провозглашение Логоса.
Презрение Гераклита распространялось не только на толпу, но и на величайших умы предшественников и современников. Соглашаясь с Ксенофаном в критике антропоморфизма Гомера и Гесиода, Гераклит столь же сурово осуждает и самого Ксенофана. В значимом фрагменте (фр. 40) последний упомянут вместе с Гесиодом, Пифагором и Гекатеем как пример того, что «многознание» (πολυμαθίη) не научает быть умным (νόον οὐ διδάσκει). Изыскания (ἱστορίη) Пифагора, под которыми в первую очередь понимаются его гармонические и арифметические открытия, отвергаются с особой силой (фр. 129) как бесплодное накопление фактов. Согласно Гераклиту, мудрость заключается не в эмпирическом познании множества вещей, но в ясном постижении одной-единственной истины, управляющей всем. Эту истину Гераклит, в духе подлинного пророчества, называет своим Словом-Логосом (Λόγος), которое «вечно истинно», хотя люди, подобно спящим, не способны его понять, даже услышав (фр. 1, 2). Таким образом, ключевой задачей становится раскрытие смысла, вкладываемого Гераклитом в его Логос – той фундаментальной идеи, которую он был призван высказать, независимо от того, готово ли было его время его слушать.
Структура и содержание учения о Логосе.
О природе Логоса: универсальный закон и скрытая гармония
Логос у Гераклита – это не просто личное учение или речь, но универсальный, божественный и объективный закон, управляющий миром. Это всеобщий разум и принцип, согласно которому «всё течёт» (πάντα ῥεῖ), но это течение не хаотично, а подчинено строгой мере (μέτρον) и внутренней необходимости. Логос представляет собой скрытую гармонию (ἁρμονίη ἀφανής), которая превосходит видимую и удерживает космос от распада, несмотря на кажущуюся борьбу и хаос.



