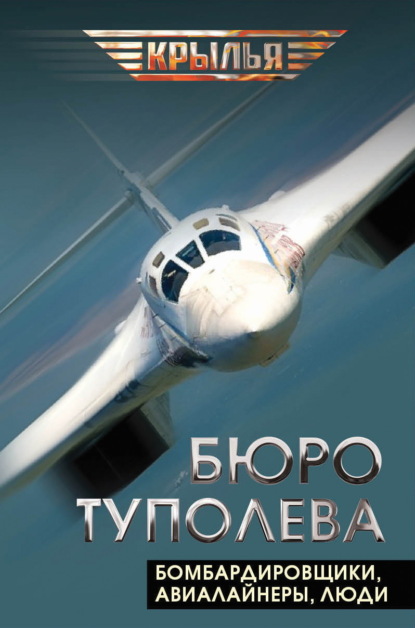
Полная версия:
Бюро Туполева. Бомбардировщики, авиалайнеры, люди
Роль Н.Е. Жуковского не ограничилась созданием ЦАГИ. Он, будучи профессором Московского высшего технического училища, сплотил вокруг себя значительный круг лиц, которые потом смогли стать во главе авиационной науки Советского государства.
Путь в небо начинается в ЦАГИ
О проекте учреждения ЦАГИ
Из протокола заседания Коллегии Научно-технического отдела ВСНХ 30 октября 1918 г.
СЛУШАЛИ. 3. Проект учреждения Аэродинамического института (доклад представителя Авиасекции ВСНХ Ивана Рубинского и содоклад профессора Московского высшего технического училища Н.Е. Жуковского).
ПОСТАНОВИЛИ. 3. Считать учреждение Аэродинамического института для создания соответствующих лабораторий и мастерских преждевременным.
Образовать в НТО аэро- и гидродинамическую секцию, которой поручить:
а) руководство окончанием постройки большой аэродинамической трубы, начатой в Высшем техническом училище;
б) руководство постройкой глиссеров, сооружаемых Аэродинамической лабораторией Московского высшего технического училища по поручению ВСНХ;
в) организацию исследований ветряных двигателей;
г) руководство испытанием аэросаней;
д) объединить и согласовать работы существующих научных аэро- и гидродинамических лабораторий и институтов, направлять их в соответствии с нуждами Республики и революции, распределять между ними задания Советской власти и следить за точным и быстрым их выполнением;
е) разработку практического проекта учреждения Центрального аэро- и гидродинамического института, проекта положения о нем и порядка развертывания его работы.
Назначить ответственную Коллегию этой секции в составе:
1) профессора Н.Е. Жуковского в качестве специалиста по научной части;
2) А.Н. Туполева в качестве специалиста по технической части;
3) И. Рубинского в качестве организатора и по хозяйственно-финансовой части.
В состав Коллегии ввести с совещательным голосом по одному представителю:
а) Авиационной секции ВСНХ;
б) Аэродинамического отдела Экспериментального института путей сообщения;
в) Секции сельскохозяйственного машиностроения ВСНХ;
г) Расчетно-испытательного бюро Главного управления Военно-Воздушного Флота, состоящего при Московском высшем техническом училище[4].
О подготовке материалов к открытию отделов ЦАГИ
Из протокола заседания[5] Коллегии аэро- и гидродинамической секции НТО ВСНХ 6 ноября 1918 г.
Присутствуют: заслуженный профессор Н.Е. Жуковский, инженер А.Н. Туполев, И.А. Рубинский, Н.В. Красовский.
СЛУШАЛИ. 4) Вопрос о разработке положения о Центральном аэрогидродинамическом институте и порядке его разворачивания.
ПОСТАНОВИЛИ. Поручить А.Н. Туполеву подготовить материалы к открытию нескольких отделов института в ближайшее время.
О выборе А. Н. Туполева товарищем председателя коллегии ЦАГИ
Из протокола заседания Коллегии аэро- и гидродинамической секции НТО ВСНХ 28 ноября 1918 г.
Присутствуют: профессор Н.Е. Жуковский, И.А. Рубинский, Б.С. Стечкин, Н.В. Красовский.
СЛУШАЛИ. 1. Вопрос выбора товарища председателя [Коллегии Центрального аэродинамического института].
ПОСТАНОВИЛИ. 1. Выбран А.Н. Туполев.
О праве А. Н. Туполева подписывать платежные документы
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Высший Совет Народного Хозяйства
Отдел Научно-Технический
24 декабря 1918 г.
№ 2592
Москва, Б. Златоустинский переулок, д. 6
В финансово-счетный отдел
Научно-Технический Отдел просит открыть кредит Аэро-гидродинамическому институту на оборудование и содержание из § 3 ст. 2 в сумме 209 650 р. и выдать тов[арищу] Председателя Коллегии Института А.Н. Туполеву аванс в размере 10 000 р. на организационные расходы.
Право подписывания платежных документов (за исключением требовательных ведомостей на вознаграждение постоянным сотрудникам, которые будут скрепляться подписью Управляющего делами Н.Т. Отдела) предоставляется в пределах сообщаемого расходного расписания Председателю Коллегии профессору] Н.Е. Жуковскому и товар[ищу] председателя Коллегии инженеру-механику А.Н. Туполеву, засвидетельствованные подписи которых при сем прилагаются.
Расходное расписание утверждено отделом в следующих цифрах: а) личный состав – 65 565 р., б) оборудование – 77 000 р. и содержание – 67 085 р.
Из доклада о деятельности ЦАГИ[6]
Центральный Аэро-гидродинамический институт начал функционировать с 1 декабря 1918 г. согласно постановлению Научно-технического отдела ВСНХ.
Институт имеет своей задачей способствовать развитию аэро- и гидродинамики в целях научного и главным образом практического использования в различных отраслях техники.
Согласно положению об Институте[7], он для осуществления своих целей:
а) руководит научной работой и распределяет ее в аэро- и гидродинамических лабораториях и институтах Республики;
б) способствует учреждениям и работникам в их научных и практических исследованиях в области аэро- и гидродинамики;
в) руководит изданиями оригинальных и переводных трудов в упомянутой области;
г) производит научную экспертизу в области изобретений;
д) классифицирует и систематизирует соответствующий материал;
е) поддерживает связь путем письменных сношений и командировок с заграничными научными лабораториями и институтами;
ж) устраивает и назначает конкурсы и премии по вопросам аэро-гидродинамики;
з) распространяет сведения по аэро-гидродинамике путем устройства лекций и курсов.
Для практического выполнения этих задач в Институте намечено устройство семи отделов:
1) общетеоретического,
2) авиационного с отделением винтомоторных групп,
3) ветряных двигателей,
4) средств сообщения,
5) приложения аэро- и гидродинамики к сооружениям,
6) отдела изучения и разработки конструкций,
7) отдела научно-технической специализации по аэро- и гидродинамике.
В настоящее время развернуто пять отделов Института и пока не функционируют три (средств сообщения, приложения аэро- и гидродинамики к сооружениям и отдел научно-технической специализации).
По Отделу научно-технической специализации временно решено устраивать отдельные лекции и курсы и командировать своих лекторов в случае нужды в провинцию.
В дальнейшем работы каждого отдела будут охарактеризованы и указаны особо.
Управление Институтом
Во главе Института стоит Коллегия из трех лиц:
1) председателя (специалист по научной части) профессора Николая Егоровича Жуковского, известного деятеля русской авиации, автора 143 научных трудов по аэро- и гидродинамике, прикладной и теоретической механике;
2) товарища председателя (специалист по технической части) инж[ене— ра]-мех[аника] Андрея Николаевича Туполева, оставленного при МВТУ, автора статей по аэродинамическому расчету и проектов выполненных аэродинамических труб;
3) специалистов по хозяйственной части Ивана Александровича Рубинского, быв[шего] заведующего] авиационными мастерскими на Московском аэродроме и в Одессе.
Кроме того, в состав Коллегии входят с совещательным голосом: секретарь Коллегии Николай Валентинович Красовский и и.о. управляющего делами Института инженер-механик Николай Иванович Иванов.
Являясь ответственной за общий ход дел в Институте, Коллегия руководит его работами, рассматривая и утверждая предложения, вносимые заведующими отделов.
В целях постоянной информации каждые две недели заведующие отделами делают в Коллегии доклады о произведенных работах и [сообщают] намеченный план будущих работ.
Ответственные сотрудники и специалисты
Ответственными сотрудниками являются заведующие отделами:
1) общетеоретического – инж[енер]-мех[аник] Владимир Петрович Ветчинкин, преподаватель МВТУ, автор более 20 научных работ по аэродинамике;
2) авиационного – инж[енер]-мех[аник] Андрей Николаевич Туполев, оставленный при МВТУ, автор статей по аэродинамическому расчету и проектов выполненных аэродинамических труб;
3) винтомоторных групп – инж[енер]-мех[аник] Борис Сергеевич Стечкин, оставленный при МВТУ, конструктор нового авиационного мотора «АМБЕС»;
4) ветряных двигателей – военный летчик Николай Валентинович Красовский, специалист по постройке и исследованию ветряных двигателей;
5) изучения и разработки конструкций – инж[енер]-мех[аник] Николай Иванович Иванов, оставленный при МВТУ, автор аэроплановедения, материаловедения авиационных материалов, сопротивления материалов и атласа деталей аэропланов.
Из особо выдающихся специалистов следует упомянуть:
1) Бориса Николаевича Юрьева (отдел ветряных двигателей), помощника заведующего, автора геликоптера, награжденного серебряной медалью на выставке воздухоплавания в Москве в 1912 г., и автора собственной теории гребных воздушных винтов;
2) Николая Гавриловича Ченцова (помощн[ика] заведующего] общетео— ретическ[им] отд[елом]), около 10 лет работающего теоретически в области аэродинамики;
3) Алексея Степановича Кузина (отд[ел] винтомоторн[ой] группы), известного строителя аэросаней, около 8 лет работающего с успехом в этой области.
Число сотрудников по отделам (исключая заведующих, упомянутых выше):
1) общетеоретический – 4,
2) авиационный – 5,
3) винтомоторных групп – 2,
4) ветряных двигателей – 3,
5) изучения и разработки конструкций – 2.
Кроме того, по постройкам большой аэродинамической трубы заняты 2 сотрудника.
Научные учреждения, обслуживающие институт
Временно, впредь до оборудования собственных лабораторий, Институт пользуется:
1) Аэродинамической лабораторией МВТУ,
2) Лабораторией двигателей внутреннего сгорания МВТУ,
3) Лабораторией испытания материалов МВТУ,
4) Аэродинамическим институтом (быв. Рябушинского).
А.Н.Туполев
О деятельности авиационного отдела ЦАГИ
Стенограмма выступления на заседании Коллегии НТО ВСНХ
4 июня 1926 г.
Мы начали работы на углу Немецкой и Вознесенской улиц[8], в помещении, где был трактир. Помещение было совершенно непригодное, но мы его заняли и в нем начали наши работы. Задачи, которые стояли перед нами, были очень велики. Мы были отрезаны от заграницы годами войны и позже годами блокады. Мы не знали, что там делается. Нам нужно было их догнать в самый короткий срок. Мы выработали план, в течение последних лет мы его выдерживаем если не месяц за месяцем, то, во всяком случае, полугодие за полугодием.
Мы должны были подобрать материалы, над которыми можно было бы работать. Нужно было создать группу лиц и рабочих, которые могут строить аппараты. Как только появилась у нас в Союзе возможность получить легкий металл, когда Кольчугинский завод стал производить первые опыты, мы связались с Кольчугинским заводом. Все наши работы были связаны с Госпромцветметом. Мы должны отдать справедливость, что они шли на помощь и оказывали нам поддержку.
Затем у нас наладилась связь с заводом «Красный Выборжец» по изготовлению труб. Мы изготовляли все элементы, а затем все эти элементы подвергались у нас изучению. На этом была основана база, отсюда исходили, чтобы строить необходимый материал. Для этого нужно было подобрать соответствующий круг инженеров. Пришлось этих инженеров провести через определенную школу. Они учились, начинали с отдельных элементов и переходили с одного аппарата на другой. Чтобы не сбиваться с пути, мы установили вполне твердую и строгую программу и выдерживали ее из года в год.
В своем рассказе я буду придерживаться хронологического порядка. После деревянного аппарата мы построили аэросани, которые были запущены в промышленность, и, только проверив отдельные элементы на аэросанях, поняли, что можем строить целиком металлический аппарат. Вы здесь видите пассажирский аппарат, который строится на Кольчугинском заводе. Это первый металлический аппарат.
В этом случае на помощь пришло Управление Военно-Воздушных Сил. Когда явилась возможность работать по металлу, оно давало средства не только непосредственно для своих заданий, но и некоторую сумму, чтобы углубить исследовательскую работу. Эта работа выявилась в постройке первого металлического аппарата. Просто построить аппарат, конечно, не представлялось возможным: нужны были глубокая предварительная разработка и испытание всех элементов. Если мы добились определенных результатов, то именно благодаря тому, что между отделами у нас имелся полный контакт.
Наша работа была связана с целым рядом лабораторий, и тесное содружество привело к результатам, на которых я останавливаюсь.
Следующая работа, которую мы проделали, была подготовка аппарата по заданию Управления Военно-Воздушных Сил – боевой машины. Она тоже испытана и в настоящее время выполняется на заводах Авиатреста. Должны отдать справедливость заводу № 5, который изготовляет части к этой машине, работу производит хорошо и в нужные сроки. Чем же объяснить, что, получив задание на новую машину, получив новые чертежи, принимая во внимание, что у завода свои навыки, а у нас – свои, почему в такой короткий промежуток времени завод без особых затруднений справился с этой машиной?
Нужно сказать, что, помимо того, что он сам смог подобрать необходимый персонал, на заводе использовали тот метод, который мы положили в основу своей работы. Наш метод был таков. Промышленные заводы, которые делают металлы, и не только металлы, но и фабрикаты, делают все элементы по нашему сортаменту. Они делают трубы нужных размеров, по сортам, все профили. Все остальные элементы этого сортамента были нами изучены и проработаны, и на заводе ведется уже изготовление аппаратов из отдельных готовых элементов готового сортамента. Этот метод значительно упрощает задачу и делает все оборудование, которое приходится готовить на заводе, очень простым.
Дальше у нас стоит задача построить аппарат в 900 л.с. для удовлетворения нужд Технического бюро. Эта работа очень большая. У меня в портфеле имеется оттиск статьи одного немецкого ученого – обзор металлических конструкций, сделанных до настоящего времени. Про нас – маленький абзац, где говорится о пассажирском самолете, но здесь вы не найдете машины размерами больше, чем наша. Я должен отметить, что мы значительно больше сделали, чем обещали. Мы обещали дать скорость 160 км/ч, а дали 182 и дадим еще больше; вероятно, дойдем до скорости 190–195 км/ч. Другими словами, благодаря правильной системе в работе мы получаем очень хорошие результаты.
Помимо работ, связанных с аэропланами, перед нами стоят вопросы постройки глиссеров и гидросамолетов. В этом отношении мы находимся в плохих условиях, потому что канал не закончен и приходится строить с большой степенью гадательности. Это первый глиссер, опытный, построенный в мастерских. Он дал хорошие результаты и был построен на основе наших теоретических выкладок. Сейчас в постройке находится аппарат в 1200 л.с. Этот аппарат если не наилучший, так как здесь все-таки имеются элементы гадательности, потому что мы не могли произвести испытание в каналах, то, во всяком случае, по размерам и по скорости в настоящее время такого еще не имеется.
Следующая наша задача – работа над гидросамолетами. Здесь мы стоим перед невозможностью постройки, и этот вопрос обходим сейчас справа и слева. В прошлом году был построен и испытан глиссер с воздушным винтом, постройка его велась, чтобы выяснить технический вопрос, необходимый профиль. Теперь встал вопрос, как построить корпус для гидросамолета, поскольку без испытаний это сделать невозможно. Таким образом, будучи готовыми с технической точки зрения к постройке гидросамолета, корпус его мы не можем подготовить к постройке, а жизнь этого требует.
Нужно сказать, что проводить работы нам пришлось в ненормальных условиях. Мы собираем аппарат, собираем крылья, а вынести – нельзя, и приходится выламывать стенку для этого, а затем втаскиваем аппарат обратно и заделываем стену. Такое повторяется из года в год: чтобы вынести наружу глиссер, нужно разломать стену и его перевернуть, потому что он собирается в обратном положении.
В конце прошлого года из запасного фонда Совнаркома, если я не ошибаюсь, была отпущена небольшая сумма на постройку сборочной мастерской. Когда накопился большой опыт, мы выявили основные требования, которые необходимо предъявить для специальных зданий для выполнения опытной конструкции, здание должно быть специфично – именно удовлетворять своему назначению.
Я хочу остановиться на том, какие работы мы сейчас ведем. На полном ходу постройка металлического истребителя под мотор в 420 л.с. Производится всестороннее его изучение. Весь аппарат компактен и прост. Сейчас сделаны все макеты.
Я хочу подчеркнуть еще одну мысль, которая для нас всегда ясна, но со стороны может показаться не совсем ясной. Эта мысль заключается в том, что наша работа исследовательская, всегда связана с углубленным изучением вопроса. Возьмите хотя бы этот аппарат, по существу удовлетворяющий основным нормам Управления Военно-Воздушных Сил. Тут возник целый ряд вопросов: оказалось, верхние крылья вместо двух лонжеронов вдруг обратились в три лонжерона, а нижние крылья из двух лонжеронов – в один лонжерон. Таким образом, мы, как учреждение по существу глубоко исследовательское, всякий вопрос, попавший к нам, волей-неволей углубляем за пределы, принятые на обычном заводе. В этом направлении у нас работа ведется полным ходом.
Вот кратко о той работе, которую мы проделали до сего времени. Я не сказал только одного: чтобы правильно построить гидроплан, мы предприняли постройку канала.
Вкус к науке мы приобрели еще в период работы в составе ЦАГИ.
В начале 20-х годов, когда мы начали проектировать свои первые машины, тесное сотрудничество ученых и конструкторов было просто необходимо. Для защиты молодой Страны Советов в кратчайшие сроки нужно было создать мощный воздушный флот…
И.Ф. Незваль
Становление конструкторского бюро А.Н. Туполева (1922–1938 гг.)
И.Ф. Незваль – доктор технических наук, Герой Социалистического Труда, заместитель генерального конструктора ММ3 «Опыт», помощник А.Н. Туполева, проработавший с ним свыше 50 лет – с начала образования КБ

И.Ф. Незваль
Труды Н.Е. Жуковского и его учеников явились не только основой для авиационных наук, они также послужили мотивом к созданию будущего научного авиационного центра. ВСНХ РСФСР с одобрения В.И. Ленина такой центр был создан в декабре 1918 г. под названием Центральный аэрогидродинамический институт – ЦАГИ.
В этом институте А.Н. Туполев возглавил авиационный отдел (АТОС), который занимался решением задач практического создания авиационных конструкций на экспериментальной основе, служивших своеобразными ступенями к проектированию самолетов. В числе таких конструкций следует назвать первый быстроходный деревянный глиссер с авиационным двигателем «Испано-Сюиза» и гребным винтом. Испытания глиссера полностью подтвердили его расчетные данные. В авиационном отделе были также построены первые аэросани: двухместные, деревянной конструкции, с маломощным двигателем «Анзани» в 35 л.с. Аэросани неоднократно участвовали в скоростных соревнованиях-пробегах и показывали хорошие результаты.
В процессе этих работ, проводимых под руководством А.Н. Туполева, начал складываться конструкторский коллектив отдела, а осенью 1922 г. он получил задание на проектирование и постройку небольшого спортивного самолета – авиетки. Этого задания все с нетерпением ждали как праздника: оно означало признание коллектива как опытного конструкторского бюро в системе ЦАГИ.
В то время перед авиационными конструкторами стоял вопрос: из какого материала строить самолеты? Дерево или металл? Что перспективнее для самолетов будущего? Вопрос был главным в самолетостроении, а однозначного ответа на него не было.
Занимаясь постройкой глиссера и аэросаней, Андрей Николаевич отчетливо понял бесперспективность применения дерева для самолетов. Для него стало очевидным, что будущая авиация, и особенно тяжелая, должна базироваться только на металле. Но для этого требовалась специализированная металлургическая база легких сплавов.
В то время многие авиационные авторитеты полагали, что основным материалом для строительства самолетов в нашей лесной стране должно быть только дерево. Неудивительно, что Туполеву и другим сторонникам противоположного мнения пришлось выдержать огромную борьбу за признание роли металла. В Москве в конце 1922 г. была проведена широкая открытая дискуссия, на которой выступил А.Н. Туполев, заявив, что надо смело развивать металлическое самолетостроение. Эта точка зрения победила.
Необходимой металлургической базой стал Кольчугинский завод, первым освоивший пригодный для строительства самолетов сплав, названный кольчугалюминием. Специальной комиссией ЦАГИ в составе А.Н. Туполева, И.И. Погосского, В.М. Петлякова, Н.С. Некрасова, Г.А. Озерова и других были разработаны необходимый сортамент полуфабрикатов из этого металла, а также технические требования к нему.
В такой обстановке коллектив, возглавляемый А.Н. Туполевым, приступил к проектированию своего первенца. Самолет проектировался в основном из дерева, и лишь его хвостовое оперение и отдельные элементы планера выполнялись из кольчугалюминия. Это облегчило самолет и повысило его прочность. Выбрали оригинальную монопланную схему со свободнонесущим крылом. Следует помнить, что большинство самолетов того времени имели бипланную схему. Андрей Николаевич доказал, что наиболее выгодным и перспективным является моноплан свободнонесущей конструкции, и вместе с группой таких же, как он, молодых энтузиастов-инженеров смело взялся за решение этой нелегкой и необычной задачи.
Крепко спаянный коллектив молодых талантливых конструкторов горел желанием работать на благо отечественной авиации. Все безоговорочно верили своему руководителю, а он сам работал увлеченно и самозабвенно, являясь для всех образцом трудолюбия. В первый год деятельности у Андрея Николаевича было всего четыре непосредственных помощника – И.И. Погосский, В.М. Петляков, А.И. Путилов и Н.С. Некрасов. Помимо них, работали еще пять инженеров-испытателей – В.М. Ковдорский, Н.И. Подключников, Е.И. Погосский, Т.П. Сапрыкин и Н.И. Петров и три конструктора – Д.Н. Осипов, А.П. Голубков, И.Ф. Незваль. Таким образом, в КБ имелось всего 13 инженерно-технических специалистов.
Помимо своей основной деятельности, некоторые специалисты занимались также чисто хозяйственными вопросами. Например, Подключников, выполнявший расчеты на прочность, одновременно ведал всеми финансовыми делами, вплоть до выдачи зарплаты; Сапрыкин наряду с работами по проектированию шасси заведовал служебным гаражом; Е.И. Погосский и Петров одновременно были летчиками-испытателями; Петляков проектировал крылья и одновременно руководил организацией производства.
Технический персонал был тоже малочислен – всего 30 рабочих, из которых 20 слесарей приехали с Кольчугинского завода после того, как в Кольчугине завершился выпуск первой партии сортамента отечественного дюраля. Производство возглавил техник Н.В. Лысенко. Рабочих было явно недостаточно, и сборкой агрегатов самолета, как правило, приходилось заниматься самим конструкторам.
Условия работы коллектива в те годы, мягко говоря, были далеко не идеальными. Все КБ, входившее в состав ЦАГИ, размещалось в одной небольшой комнате в бывшем доме купца Михайлова (где теперь находится Научно-мемориальный музей Н.Е. Жуковского), а производственные площади размещались в двух других комнатах того же дома, а также в помещении бывшего трактира «Раек» на углу нынешних улиц Радио и Бауманской.
Оборудование производственных участков было самое примитивное. Станков вообще не было, имелось лишь несколько ручных дрелей, которыми все по очереди пользовались. Слесарный инструмент рабочие приносили с собой из дома. Центральное место занимал вагонный буфер, на котором производилась правка и рихтовка листовых деталей. Однако вскоре Андрей Николаевич сумел раздобыть несколько настольных сверлильных станков, что значительно облегчило работу и подняло настроение коллектива.
Какова же была организация работ при проектировании первого самолета? Компоновка самолета выполнялась А.Н. Туполевым совместно с Б.М. Ковдорским. Аэродинамический расчет, система управления самолетом и моторной установкой разрабатывались И.И. Погосским вместе с его помощником А.П. Голубковым. Проектированием крыла руководил В.М. Петляков, фюзеляжа – А.И. Путилов, оперения – Н.С. Некрасов соместно с Д.Н. Осиповым. Моторным оборудованием занимался Е.И. Погосский, шасси – Т.П. Сапрыкин, внутренним оборудованием – Н.И. Петров, а вопросами общей прочности – Н.И. Подключников. Такая функциональная специализация среди руководителей КБ сохранилась и при проектировании последующих машин.



