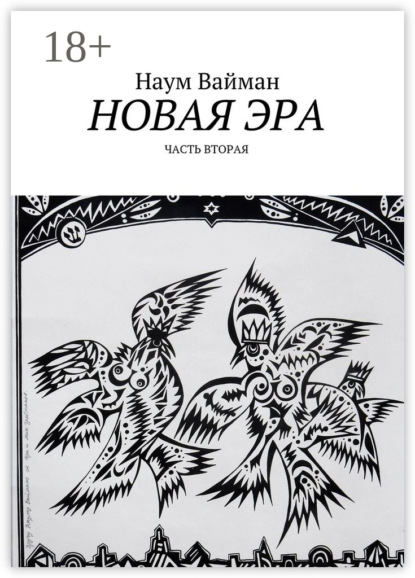
Полная версия:
Новая эра. Часть вторая
Мысль о том, что еврейский Бог – стихия, причем огненная (тут совсем близко до Гераклита), подтверждается всеми мистическими текстами, с коими я сталкивался. Все описания Престола Божьего, и даже ангелов – описания бушующего огня (ангелы тоже оказываются огненными субстанциями). И в книге Иова Бог – стихия, и даже возмущается, когда от него требуют «ответа» или «отчетности». Вот только странная это стихия, целенаправленная, у нее есть Цель!
Я думаю, что главная мысль Гершензона, а, возможно, и создателей Ветхого Завета (и это совпадает с твоей основной мыслью), что у «мировой воли», Бога или просто «мира» – есть Замысел. Это даже не мысль, а «первоинтуиция», и даже не первоинтуиция, а вера. Главная вера – это вера в Замысел. А в чем он состоит? В гармонизации всех индивидуальных воль в одну единую волю Божью, или «родовую»? А какова цель этой Воли Божьей? Кто-то научился ее понимать? Да, вся еврейская работа по комментарию, толкованию священных текстов это есть попытка понять Замысел. Но все это творчество тысячелетий основано на вере в то, что Богом дан священный текст – Тора, там все прописано и надо только разобраться. То есть должны быть какие-то аксиомы, даже у веры. А Гершензон все основывает на мировой воле, она же родовая, она же Божья, но в сущности-то в Бога не верует и занимается, пусть и «для себя», философией. И мне кажется, что вы, ребята (ты с Гершензоном), хотите выдать желаемое за действительное: вам хочется, чтобы мир был упорядочен, имел бы смысл, цель, Замысел, и даже «гармонию». И не случайно опус Гершензона заканчивается оптимистическим гимном типа все будет хорошо: настанет «новый, лучший мир», «уже не будет раздвоения на объект и субъект: мировая воля нераздельно сольется с волей человека» (если, конечно, будете, суки, выполнять волю Божью). Но раз уж речь о стихии, то гармония, или некая «красота» в этом мире возможна только дикая, как игра цветов неба на закате. Да, мир – стихия, и человек – часть стихии, но стихия хаотична, бессмысленна и непредсказуема. А Гершензон еще верит не просто в Замысел, а в «непреложное стремление к совершенству» («Тройственный образ совершенства»).
Но если допустить, что есть некий Замысел, только мы его не знаем, но должны познать, то это опять же сказка про белого бычка: мир познаваем, только процесс познания бесконечен. Что ж, вперед, ребята, я не против процесса познания. Но мне кажется, что Замысел мы знать не только не можем, но и не должны, иначе будет «неинтересно», ни нам, ни Богу. Жизнь остановится. Это как в твоей философии искусства: знание процесса спасения не только не спасает, но и может разрушить непосредственность переживания экстаза спасения.
Теперь насчет истории, как педагогики, то есть Бог, он же мировая стихия, «учит» человека жить по его «законам», в соответствии с Замыслом. И как он учит? Через род (тоже твоя любимая идея): род всегда прав, «личность, повинуясь велениям рода, осуществляет мировой план». Но кто мне скажет что такое «веление рода», его «коллективный разум»? И в духе ли Божественных наставлений его веления, а не случайная и сиюминутная «равнодействующая всех личных своеволий»? Значит должны быть какие-то жрецы, старейшины рода, власть, которая мне все расскажет и укажет правильный путь, так что ли? «Твердо устанавливается иерархия властей и подчинения». Так мы эту власть раввинов и попов, а также всяких буржуев еще в 17-ом скинули. И это было коллективное веление рода! Так что, опять полезем под ярмо всяких власть предержащих да «объяснителей»?
Сознательно, или бессознательно, Гершензон туда и клонит, когда пишет о морали, что «религия узнает свой лик в морали», то есть религия становится сводом законов, которые все призваны выполнять, стихия жизни обретает каркас. Замечательно, душа верующего успокоилась: выполняй законы и ты на правильном пути (в рай). Так вера в Замысел становится верой в жрецов-законодателей. «… личность, как самочинная воля, должна угаснуть и стать лишь приемником и исполнителем Божьих велений». А на деле – велений попов и раввинов. А кто они такие? Много книжек прочитали? Да и я немало. Или у них нет своих «житейских» интересов, только божеские?
В общем, получается, что вера – это покорность. И дело не в том, что душа моя против покорности, допустим, это мои проблемы, но покорность означает конец той самой свободы выбора и личной воли – зачем она тогда была дадена? «Таким и должен стать человек – не самозванным хозяином, ставящем себе цели, но и не механическим орудием, а усердным и умелым исполнителем». Исполнитель – это и есть орудие.
В общем, либо стихия, либо Замысел.
«Вселенная и единосущный ей человеческий дух – неукротимый огненный вихрь: вот познание, олицетворенное в образе библейского Бога. Это безыменный и безликий, но реальный Бог, носящийся самумом по миру, распаляющийся пламенем, извергающий дым и горящие уголья, плавящий горы, бешено-вспыльчивый, беспощадный, ревнивый, нетерпеливый, забывчивый».
Это мне подходит, красиво. Но если Бог – стихия (у Гершензона он совсем уж гераклитовский – столп огня), то как он может быть «еще и законодателем»? Да еще «олицетворением тех непреложных стремлений к совершенству»?
«Бог Синайских кочевников – преимущественно энергия». С одной стороны – «энергия», а с другой – «наглядная схема мира» (подчеркнуто). Что-нибудь одно, либо стихия-энергия, либо схема. Стихия на то и стихия, чтобы схемам не подчиняться. Или как?
В общем, у бедняги в голове все перепуталось.
Странные тексты возникают у людей, так сказать, полурелигиозных – особенно из евреев —, то есть пишущих о Боге серьезно, как о чем-то «живом», но в то же время не с точки зрения веры, а – доморощенной метафизики.
Вот, допустим, евреи осознали и даже придумали свод законов «общественного общежития», дабы выполнять эту Божью или Мировую волю, тот самый «еврейский Закон». Так что же Гершензон ему не следует, что ж он не следует воле рода еврейского, и вместо того чтобы Тору учить, где только и можно найти «знаки» Замысла, изучает нахрен ненужную никому русскую литературу? Талмуд ему не указ? А кто ему указ, кто ему «раскрыл Замысел», Пушкин? Или, может, Чаадаев?
И потом, если Бог вочеловечился, то он теперь как бы и не нужен, умер стало быть?
Тут Гершензон явно гнет к христианству: Бог – страдалец, «путь Бога в истории – крестный путь» и т. д.
И на этом фоне особенно смешны всякие инфантильные попытки возвеличить «нашу нацию», такой своеобразный «интеллигентный» национализм, или национализм для интеллигентов (универсалистов!): «Но еврейский народ первый в полном объеме определил задачу разума (великий еврейский народ, ВЕН!, как говорили на идиш: вус? вен? – где, что?): надо поставить исследование в мировом масштабе. И, не дожидаясь других, один предпринял гигантский труд, плодом которого должно было быть спасение человечества, предпринял и исполнил (ВЕН), насколько сумел, – во всяком случае, с величайшим рвением и непоколебимым мужеством, „весь в язвах“ от бесчисленных взрывов изнутри и извне (о, ВЕН!)».
Кстати, утверждая, что «единственной школой, научающей упорядочивать внутренние взрывы, является общежитие», Гершензон оказывается на поле социологии, тот же Мосс, кстати, современник Гершензона, прекрасно объяснял религию через «общежитие».
В общем, ключ веры это просто желание упорядочить мир, страх хаоса и неопределенности.
«…мировая воля, без задержек циркулируя в тебе, будет сама безошибочно направлять твои шаги в целостном движении всей твари к неведомому совершенству». Да она и так во мне вовсю циркулирует и куда-то меня направляет. Может, и к совершенству, дай-то Бог, знать бы только что это такое…
В общем, что я тебе скажу… Как еврей еврею… Много духовного поиска.
Всегда твой
Наум
От Л:
Хаг херут самеах24 тебе тоже! Как я буду засыпать, это не твоя забота, а записки пришли пожалуйста перед отъездом чтоб я знала к чему еще ты потерял интерес.
А вот к запискам и потерял, все это кажется мне дурной бесконечностью круговорота и продолжать надоело.
8.4. Седер Песах25. Очередной маразм. Брызжущая гневной энергией теща, затюканный тесть с несчастными глазами, ерничающий шурин («Господу Богу помоо-лимся!»), никакого седера26, который мне почему-то хочется сделать по всем правилам, но воевать с «народом» лень. Мама заискивает перед тещей: «садитесь, садитесь!», теща: «А я хочу постоять!», сноха «подкалывает»: «рыба ничего, только соли мало»…
Сытую тещу повело на воспоминания чуть ли не о выходе из Египта:
– Я сегодня разговаривала с дядей Семой по телефону, он в Новосибирске, брат матери, ему уже девяносто два, или три, он тысяча девятьсот восьмого года рождения, я очень хорошо помню, я очень люблю дядю Сему, он был генеральным прокурором Новосибирска, а во время войны он был в военной прокуратуре, а потом его бросили на Армению… мой дед бежал от белополяков, они так издевались над евреями, они его страшно избили, и он еле дошел до нашего городка, пришел к маме, сказал покажи мне внука, а Борис тогда недавно родился, и он так над ним плакал, а потом он через несколько дней умер, он ездил по всему миру и сделал много хорошего советской власти, он был купец первой гильдии, да, а бабушка успела унести в эвакуацию горшок с царскими золотыми монетами…
На просьбу мамы говорить «потише» она обернулась на открытое окно и почти закричала:
– Пусть все слышат, пусть кегебе слышит, я ничего не боюсь, да, в Сибирь, через всю Россию, и горшок шел за ней… а другой дядя погиб на рапирах, он занимался рапирами… когда евреи стали скрывать свое родство… я поехала к нему в 1938 с Изенькой, который потом погиб, и я помню солнечное затмение, тогда произошло солнечное затмение, вдруг стало темно, так страшно, мачеха стала кричать: «Конец света! Конец света!», а дядя Сема ушел с тетей Розой, а она все кричала: «Конец света, конец света!», она была такая местечковая, верующая… и я пошла в центральную прокуратуру, я ничего не боюсь, я решила разыскать дядю Сему, меня долго расспрашивали, кто я ему, я не героиня, я нормальная женщина…
– А где горшок-то?! – орет шурин.
– Игорь, как тебе не стыдно! Это твои родственники! Твои, твои!… а другой брат погиб в империалистическую… перестаньте курить, Илюша, иди сюда… всё, вы от меня устали, я молчу, здесь меня не уважают, я вам никогда больше не буду ничего рассказывать, здесь не уважают Любовь Рафаиловну…
Для Л:
Обещают похолодание. Читаю Розенштока-Хюсси. Едем на Крит. Пароход уходит, машу тебе рукой…
13.4. Наговорил Р на автоответчик: «А я думал, ты мне нашепчешь что-нибудь. Я без тебя измаялся на этом Крите…»
Перед отъездом не выдержал, «исповедался» Аркадию. Он говорит: «Тебе повезло. У меня за всю жизнь никогда не было классной женщины». А у него много было. Но он искал перепихнуться. И весьма преуспел в этих поисках. Вот и она тоже, перепихивается, небось, с утра до вечера, и горя мало.
Написал Юле-переводчице о фильме Гринвея «Восемь с половиной женщин».
Наум
Имя знаю, фильм – нет. У нас не идет. Видео нету. Если не лень, опишите «картинку».
Спасибо, Юля
Юля, привет!
Фильм пересказать невозможно. Это такая перекличка-полемика-фехтование с Феллини и со всей «эпохой Феллини» (культурной эпохой), которая была еще эпохой относительно «непосредственной». А теперь без «юридических советников» внутри себя человек шагу не сделает, ни одного захудалого чувства не возникнет неотрефлектированного, не занесенного в «культурный протокол». И как все это «непосредственно» сказывается на «любви-с». Хотя «трудный опыт» показывает, что если баба (пардон за фольклор) «зацепит», то хрен отрефлектируешь… (за фольклор я уже извинялся) А может это у меня «старое» сознание работает, на Феллини ж воспитывались, если не хуже…
Наум
Prodolzenie filosofskoj p’janki
Матвей, привет!
Вернулся с Крита. От минойской эпохи осталось маловато. «Реставрация» Кносского дворца на потребу туристским толпам смахивает на публичное поругание. Правда, подлинники фресок они снесли в музей, от них немного осталось, фрагменты: орнаменты, даже портреты, причем умиротворенности необыкновенной. Не злой был народ. Что-то (по умиротворенности) от нежных губ древних египтян, хотя сами «минойцы» были востроносенькие.
Читал Розенштока. Это тебе, понимаш, не Гершензон какой-нибудь. (Впрочем, «логических противоречий» и у него хватает.) И концепция мировой истории у него оригинальнейшая. У меня давно уже (с эпохи Деррида) не было такого ощущения, что читаю нечто гениальное.
Хотя ваши концепции как бы «в разных плоскостях», у него все «на языке» стоит (как на средстве коммуникации), а у тебя – «на роде», но все-таки есть «сегмент пересечения», например, язык у него – продукт ритуала, а история – история «спасения». Только у него человек «языком» спасается, а у тебя – искусством (как наследником ритуала). Но язык и искусство все-таки как-то связаны… «Спасение» вы тоже понимаете по-разному (твоя концепция мне ближе), он – как коммуникацию, всеобщий разговор, всеобщий мир (все эти евреи-либералы-универсалисты, да еще крещеные – за мир), а ты – как терапию трагического сознания. Он, видать, настрадался из-за Гитлера-Сталина, натерпелся от всей этой страшной эпохи, вот и кажется ему, что «мир во всем мире» уже и спасение.
Наум
16.4. С одиннадцати до шести были в номере. Все вернулось, и во сто крат сильнее. Я вдруг освободился от ревности. Все-таки она меня любит. И я счастлив. Когда расставались, сказала грустно: «Одни ставни закрываются, другие открываются…»
Потом еще поехал на вечер «Сплетения». Тарасов стоял у входа с прозрачным пластмассовым стаканчиком, в котором болталась прозрачная жидкость, рука его дрожала. «Никак из запоя не выйду. Я написал охуительную прозу. Я говорю Пете Птаху: Сошкин скажет, что Тарасов совсем сошел с ума. И что ты думаешь, звонит мне Птах: мне только что звонил Сошкин, он в ужасе, говорит: Тарасов окончательно сошел с ума! Ха-ха-ха!»
Цигельман читал свой очередной роман. Вайскопф и Цоллер превозносили – их человечек. Цоллер выразил разочарование читающей публикой, что она еще плохо знает своих цигельманов, мол, «мы вывезли из России русскую лень и нелюбопытство», ругал постмодерн и современное кино, где, мол, теперь Феллини. Плохо твое дело, Федерико, раз ты Цоллеру нравишься. Это меня так расстроило, что уехал. Устал, впрочем.
Сошкин, кстати, уделил мне от щедрот редакторских два номера.
На работе читал стихи Тарасова. Позвонил ему, но он не дал рот открыть:
– Ты не много потерял, что ушел. Хамство. Представляешь, Петя стал читать, а Вайскопф ему вдруг: «Спасибо», посреди стихотворения, представляешь?! Птах дико обиделся и ушел. Сказал, что с журналом он покончил. Сошкин в тихой панике. Я тоже хотел уйти, но я не мог бросить Люсю одну. Я хотел устроить им праздник, они меня просили прочитать «Возвращение в Пунт», я бы им устроил праздник минут на двадцать, но в знак солидарности, прочитал только стихотворение, посвященное Птаху. Птах у меня дома совсем разъярился, позвонил Вайскопфу и сказал, что жалеет, что не дал ему по физиономии. Вайскопф ужасно расстроился. Не спал всю ночь. Нет, ты не понимаешь, во-первых, все молодые – за Птаха, Птах еще и классный оформитель, даже Сошкин сказал, что без Птаха журнала не будет. Он считает, что Вайскопф должен извиниться. Но теперь уже поздно, после того, как Птах пожалел, что морду ему не набил…
В конце я все-таки вставил про то, что мне его стихи понравились. Принял, как должное. Впрочем, поблагодарил.
Mezhdu pervoy i vtoroy
Наум, привет!
Вопреки незыблемому русскому обычаю («Между первой и второй – перерывчик небольшой»), благодаря твоему «визиту к Минотавру» перерывчик затянулся, из-за чего я накатал довольно много бессвязных страниц по поводу Гершензона, который увлек меня чрезвычайно и, хотя и не стал моим официальным «клиентом» (о евреях писать в «русской печати» почему-то не могу), занял, в качестве фона к «русской идее», почетное место неподалеку от Шестова. Поскольку тебя Гершензон не увлек, и даже, как я чувствую, «раздражил», не смею настаивать – «Первая рюмка колóм» (но зато дальше-то, дальше: соколóм и, наконец, мелкой пташечкой!) Поэтому принимаю предложение поговорить о Розенштоке, которого знаю хорошо и о котором имею давно устоявшееся мнение. Высказывать его заранее не хочу, дабы не помешать тебе высказаться вполне спонтанно.
Что касается «Минотавра», то хочу тебе доложить, что в определенный, причем узловой, период русского «серебряного века» (примерно в 1904—1908 годах) вокруг сравнительно недавно открытой «Крито-Минойской культуры» наблюдался невиданный накал страстей. Мой подопечный Флоренский, фантастический, между прочим, эрудит, настолько проникся духом этой культуры, что сильно скорректировал, с учетом этого материала, общую историко-культурную концепцию и построил схему, весьма близкую к «маятнику Чижевского» (но задолго до него). Если этот сюжет тебя интересует, могу кое-что процитировать и пересказать из Флоренского (хоть и мерзкого, но, как ни крути, гения).
Как дела в Израиле? Кажется, напряженность возрастает. Довольны ли вы Шароном? Изменилась ли ситуация в связи с тем, что американцы, кажется, перестали «выкручивать руки» (или, по крайней мере, ослабили нажим)? Какие вообще перспективы? Все ли в порядке у сына?
Всегда твой
Матвей
Матвей, привет!
Напряженность действительно возрастает, но это вектор в нужном (как я это понимаю) направлении. Так что лично я пока Шароном доволен. Он медленно, но верно их «жмет» (и американцы пока не лишают «свободы маневра»). Стреляют и взрывают они много, но, слава Богу, бестолково, отстреливают же их активистов довольно эффективно (только мало), ну и вообще «давят», общеполитическую поддержку (даже в арабском мире) они теряют. Скоро, как тот заяц из мультика, упадут на спину и закричат: лежачего не бьют. В общем и целом, политика Шарона особых возражений пока не встречает, «оппозиция» внутри пра-ва, а левые заткнулись, разве что «наши» арабы психуют (один член Кнессета от «исламской партии» – есть такая! – послал президенту Сирии соболезнование по поводу гибели сирийских солдат во время недавней атаки изр. ВВС на сирийский радар в Ливане, назвав при этом изр. пр-во «фашистским». Когда его робко спросили, а почему он не послал соболезнование семье израильского солдата, погибшего перед этим от противотанковой ракеты, выпущенной с ливанской территории, то он сказал, что изр. солдат – захватчик, и нечего сравнивать. Перспективы? Так и будем колупаться. Выхода нет. На б’ольшие уступки мы пойти не можем (Барак «съел» весь лимит), а Арафат, после того, как положил столько своих людей, тоже не может согласиться на то, на что не согласился раньше (да и этого Шарон ему не даст). Так что дело идет к взрыву, надеюсь, «очистительному».
Сын (который в армии), слава Богу, в порядке, потихонечку служит, теперь уже не на самом «острие».
Все, что ты накатал по поводу Гершензона я с удовольствием прочту, пошли. Сам он меня действительно не очень увлек, но тем интересней, что ты там разглядел в контексте своих изысканий. А заодно и «русскую идею» освежи в памяти. У меня сия «идея» прочно ассоциируется с чем-то занудно прекраснодушно бессодержательным. Кстати, посмотрел недавно «Про уродов и людей» Балабанова, не знаю, как насчет «русской идеи», но «русская жизнь» изображена впечатляюще.
А что Флоренский писал о минойской культуре? Я, признаться, мало что уловил в этом туристском киче. И из-за чего сыр-бор разгорелся в начале века по сему поводу?
И мнение о Розенштоке изложи, раз хорошо его знаешь. Интересно, что «диалогизм», стремление «договориться» – чисто «еврейская идея», и она противоречит проблематике «господства-подчинения», которую Розеншток тоже поднял, назвал «важнейшей», но никак не прояснил (для меня). И не согласен я, что Израиль «лишь терпел смерть в процессе ожидания Мессии», а Греция «забывала» о смерти в художественном творчестве. И то, что христианство открывает путь к единству культур – не согласен, скорее – постмодерн, смерть христианства, когда «все флаги в гости будут к нам».
Чувствую, что «растекаюсь по древу», а надо бы «сосредоточиться». Подай пример. С нетерпением жду следующего тоста.
Всегда твой
Наум
P.S. Посмотрел на днях по русскому ТВ фильм о туринской плащанице. Персонажи – крещеные евреи – «выгораживают» Пилата, мол, хотел помиловать, даже «бичами побил», чтоб «евреев удовлетворить», но «еврейский народ все равно потребовал: распни его». «Фактическая» часть («отражение на простыне») подана загадочно, я даже подумал, что хорошо бы почитать про это что-нибудь «объективное», все-таки подопечный. Так что если встретишь толковую книжку на тему, возьми.
17.4. Поехал к Гробманам обсудить текст. Вернули на доработку. Отношение к названию неопределенное. НЛО издает дневники Гробмана, толстенную книгу, начиная с шестидесятых. Ира говорит: мемуаров много было, а дневников еще не было, его – первый. Дала почитать кусочки. Сухой каждодневный, местами ежечасный, перечень событий личной жизни, которые автор полагает событиями в мировой культуре.
– Ну, как? – спрашивает Ира.
Это как спросить: «Ты меня любишь?» Ну, конечно, люблю.
– Пришлось мне, – смеется, – выкинуть про все аборты, которые бабы от него делали. Да ты что, мужья же ничего не знают…
На мое замечание, что это было бы самое интересное:
– Да ты что, нельзя такие вещи делать.
Откушали кофию.
– Ты на вечере «Солнечного сплетения» был?
– Был.
– А что там произошло?
Разведка, значит, работает исправно. Пересказал разговор с Тарасовым.
– Ну, Вайскопф хам, это известно, – сказал Гробман.
– Так что, там серьезный конфликт? – Ира была почти счастлива.
– Черт его знает, – говорю.
У Гробмана идея: «Мы с Димой Сегалом (оказывается Лена Толстая до Вайскопфа была замужем за Сегалом!) решили организовать „Европейский форум“, такой мозговой центр, в пятницу первая встреча. Приходи. Вот мы тут манифест написали, обсудим». Он подошел к окну и схаркнул во двор. Еще Ира похвасталась новым приобретением: рисунок Кацмана «Ленин на смертном одре», с резолюцией Дзержинского «Не выставлять».
Р оставила запись: «Как ты себя чувствуешь?» А я вчера, когда на третий заход пошел, вдруг испугался. Так и не кончил. Как китайский император. Она говорит: так не честно, я кончаю, а ты что? Экономишь? Экономлю, да. Лежал, прислушиваясь. Вроде стучит, сердечко-то, но не чересчур шибко. «Что с тобой, опять?» – спросила испуганно. «Не, все нормально».
Позвонил. Заверил, что все нормально. Что люблю и счастлив. Так и есть.
Дорогие Стелла и Саша!
Огромное спасибо за книгу Стеллы! С удовольствием читаю «самую эротичную русскую поэтессу». Стелла, поздравляю!
Всегда ваш
Наум
От Л: А я тут была в концерте. Давали Малера и Стравинского. И вдруг поняла почему мне так хотелось подарить тебе Моцарта. Стравинский уже стесняется своих чувств, а Малер еще нет. Это и есть их разность по «времени»… ну, ты будешь мне записки слать или мне другого писателя полюбить? Заодно и стихи Тарасова. Эйх а маргаш? Как обстановочка в связи с последними событиями? Как съездил? Как чувство свободы?
Изголодавшаяся читательница, поклонница вашего таланта
18.4. По дороге с работы, в машине, вдруг звонок на чудотелефон. Из Америки.
– Привет! Вот здорово! Нормально, нормально слышно. Как дела?
– Я тут посмотрела китайский фильм, там один говорит: прошлое можно увидеть, но нельзя потрогать. Ну, вот и решила позвонить, хоть голос…
Потребовала, чтоб записки послал. Подсела на сериал.
19.4. Позвонила С, она теперь большая начальница в Сохнуте, может, обломится что-нибудь с поездками. А то, говорит, посылают бог знает кого. А вот такого интеллигента, как я, понимаш… Книга моя у нее на столе, настольная книга. Но она ее еще не прочитала. Шрифт очень мелкий.
Позвонил Ире Гробман, сказал, что героическими усилиями пару страниц убрал и название предлагаю другое: «Время не лечит».
– Я сейчас запишу, потом подумаю, через час Яшка уезжает, ни о чем сейчас думать не могу.
– Ладно.
– А ты знаешь, что Гробману дали премию Дизенгофа?
– Нет. Это что, литературная?



