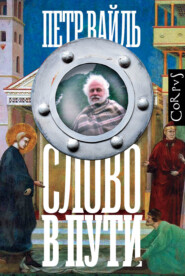скачать книгу бесплатно
Автомобильная дорога проходит высоко в горах, и, разумеется, можно приехать в эти края и так, спуститься сколько возможно, оставить машину на паркинге и забыть о ней на время, но в этом есть некое нарушение стиля. Городки Чинкве-Терре в самом центре современной цивилизации возвращают нас на несколько десятков лет назад, в доавтомобильную, дотуристскую эпоху – стоит сыграть в такую игру, пожить по ее правилам.
Чинкве-Терре – Пять Земель, Пятиземье. Или Пятиградье. Они следуют друг за другом цепочкой вдоль Лигурийского моря: Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола, Риомаджоре. Даже нельзя сказать, что эти пять городков стоят на море: они врезаются в берег, укрываются в скалах, облепляя домами склоны и вершины, простирая улицу – одну главную улицу в окаймлении переулков – по руслу некогда протекавшей здесь реки.
Наша главная улица в Риомаджоре названа в честь Колумба. В доме № 43 по виа Коломбо мы с женой и поселились, сняв у сеньоры Микелини трехкомнатную квартиру с большой кухней за 70 долларов в сутки.
Цены в Риомаджоре скромны, хозяева приветливы, дома чисты и удобны. Поскольку в самом начале виа Коломбо расположены несколько контор по сдаче жилья – есть выбор. Можно снять квартиру наверху, над городским ущельем, чтобы нелегкий подъем вознаграждался изумительным видом с балкона. Мы обосновались в торговой части, в центре местного коловращения жизни.
Пошли размеренные дни. Завтракать можно было дома, что мы и делали, покупая свежую буйволиную моцареллу, помидоры, зелень, сооружая омлет с травами, но пить кофе спускались вниз. Я покупал в киоске миланскую газету и изо всех сил разбирал свежие новости, футбольные отчеты, прогноз погоды, заказывая и заказывая кофе.
Нелепо в Италии самому варить кофе, что мы делали в Нью-Йорке, делаем в Праге. Одна из загадок этой страны, которую я не могу разгадать уже двадцать с лишним лет: почему кофе в Италии гораздо вкуснее, чем где-либо в мире? Во Франции совсем неплохо, еще лучше в Испании, свое достоинство у австрийского, в Португалии – культ кофе, что-то вроде национального спорта с сочинением множества вариаций, понимают в этом деле бразильцы и аргентинцы. Но в любом вокзальном буфете итальянского города вам наливают в чашку нечто невообразимое. И ничего не понять: в конце концов, зерна ко всем приходят извне, из Латинской Америки или Африки, машины повсюду одни и те же. Что в остатке – вода? Это произведение коллективного народного разума, попадая в Италию, я пью по множеству раз в день. Утром – cafe-latte в высоком стакане с длинной ложечкой или капуччино с горкой пены, после обеда – эспрессо, порядочный человек после обеда кофе с молоком не пьет. И по ходу дня – пять-шесть раз – макьято (macchiato — дословно “запачканный”): эспрессо с добавлением нескольких капель горячего взбитого молока.
После купания на крошечном местном пляже из черной гальки начиналась прогулка. Либо в горы вдоль виноградников и абрикосовых садов по склонам, либо по Дороге влюбленных – Via dell’amore. “Дорога” сильно сказано – это тропа по вырубленному в скалах карнизу над морем, и мало на свете троп прекраснее. По Дороге влюбленных можно дойти до соседней Манаролы, посидеть там с чашкой все того же кофе за столиком у воды и двинуться дальше, мимо разместившейся на вершине горы Корнильи – в Вернаццу. Тут по сравнению с Риомаджоре – почти столичный шик: есть музей чего-то, городской парк, крепость на холме, выходящая к бухте квадратная площадь с ресторанами по периметру. Можно перекусить тут: мы обнаружили очень недурное место с многообещающим и оправдывающим себя названием Gamero rosso — “Красная креветка”. Помимо водных тварей, там сказочно делают прославленный лигурийский соус к пасте – песто: не из фабричной банки, а на своей кухне истолченную деревянным пестиком в мраморной ступке смесь листьев базилика, орешков пиний, чеснока, пармезана, оливкового масла. Все ингредиенты есть во всей стране, но песто не из Лигурии – не песто.
В “Креветке” вкусно, однако еще лучше сесть в поезд, через двадцать минут оказаться в своем Риомаджоре и, поскольку на дворе сентябрь, купить белых грибов, нажарить их дома с чесноком и петрушкой и запить чудесным белым вином – легким и чуть терпким, которое так и называется – Cinque Terre.
В Пятиградье хорошее вино – это признают даже тосканцы, все, что не из Тосканы, презирающие. Мирового и даже общенационального значения ему не добиться: слишком мало виноградных лоз умещается на тесных горных уступах. Совсем ничтожное количество производится десертного вина Sciacchetra (произносится “Шакетра” с ударением на последнем слоге), чрезвычайно ценимого знатоками за тонкость и редкость. Давно, со времен своей рижской юности, завязав со всяческой десертностью и прочей бормотухой, я был посрамлен.
Cinque Terre считается классическим к рыбе и морской живности, но и грибы очень уместны. Вот еще одно из потрясений Италии и шире – потрясений российского человека вообще. Рушатся основы: водка лучше скандинавская, икра не хуже иранская, а изобилие белых грибов в осенней Италии добивает окончательно. Что ж остается? Ну, осетрина, этого пока не отняли. А так и самые привычные, с детства родные кулинарные радости уже за границей: миноги, шашлык, борщ.
Повалявшись после обеда, можно сесть на пароходик и отправиться в цивилизацию: на запад в Портофино или на восток в Портовенере. Но неплохо отказаться от суеты, предаться тому, чему название придумано в Италии, – dolce far niente (сладкое ничегонеделанье), а место для ужина выбрано заранее. Ресторанчик у воды, с террасы смотришь, как темнеют море и небо. Долгий обстоятельный разговор с официантом – одна из радостей отдыха. Лексикон в две сотни слов плюс незнание грамматики – откуда берется полное взаимопонимание? Ведь обсуждаем не только заказанные блюда, но и внешнюю политику России, к чему подключается соседний столик, и итоги футбольного тура, на что из кухни прибегают с мнениями и прогнозами поварята. Загадка того же рода, что и превосходство итальянского кофе. Все общие слова лишь на что-то указывают, толком не объясняя: национальный характер, темперамент, язык. Вот разве что язык – вовлекающий и раскрепощающий чужака своей несравненной гармонической красотой, как бывает, когда неодолимо хочется подпевать незнакомой песне.
Как-то вечером мы вернулись к себе на виа Коломбо, распахнули ставни. Несмотря на темноту, на склоне горы светились пестрые стены домов, вверху рядом с четким силуэтом церкви неуместно висел мусульманский месяц. Идиллия нарушалась шумной веселой болтовней в соседнем кафе. “И чего разгалделись”, – заворчал я. Жена назидательно сказала: “Они галдят по-итальянски”. Я устыдился и заснул сразу.
Города-герои
Города-киногерои бывают разные. Здесь – о тех, которые хорошо знакомы. Близки лично.
В Риге всех приезжих я первым делом водил на улицу Фрича Гайля (законное имя прежде и теперь – улица Алберта). Такого сгущения стиля модерн в одном коротком квартале, пожалуй, не найти даже в Праге или Париже. Дома строил Михаил Эйзенштейн, и легко было представлять, как рос во всем этом его великий сын. Броские метафоры “Броненосца “Потемкин”, сложные композиции “Бежина луга”, барочная вязь “Ивана Грозного”: всему можно подобрать соответствия в изысканных фасадах, оставленных Риге отцом Сергея Эйзенштейна.
Сам будущий режиссер покинул город семнадцатилетним, ушел в большой киномир. Всегда казалось странным, что Рига не стала киношным центром, ни одним достойным художественным фильмом здесь не похвастаются. А вроде к этому располагало все: и сильная театральная традиция, и техническое развитие, и богатство – Рига в начале XX века по материальным показателям была третьим после Петербурга и Москвы городом Российской империи. А главное, что было и есть, – атмосфера.
Речь идет о той легко уловимой, но трудно объяснимой категории, которая определяет лицо города. Сновидческая природа кинематографа сразу улавливает эту родственность или ее отсутствие, принимая или отвергая места. Рига для кино словно создана. В ней – необходимое сочетание ненавязчивой романтики, позволяющей додумывать реальность, с внятностью очертаний и деловитой трезвостью повседневной жизни. В ней, наконец, обилие простой наглядной красоты – зданий, бульваров, парков.
На протяжении полувека эта красота воспринималась экзотикой, которую отчаянно эксплуатировали в советском кино. Здесь помещался сразу весь Запад. Достаточно было прохода по брусчатке на фоне готики, чтобы становилось ясно, что персонаж уже в Европе. Улицы Смилшу и Пилс, церкви Екаба и Яня, площади Гердера и Домская, Бастионная горка и городской пруд были картинками внешнего мира для огромной страны. Как мы грустно веселились, глядя на героя фильма “Сильные духом”, кружившего и кружившего в открытой машине вокруг все той же церкви Святой Гертруды, изображая дальнюю поездку по европейскому городу. А как забавно наблюдать шерлок-холмсовскую Бейкер-стрит, снятую на рижской Яуниела: ну ничего похожего – если знать лондонскую Бейкер-стрит, но кто ж ее знал.
Может быть, именно такая рижская полувековая судьба – быть чужим фоном – в противодействие породила здесь мощную школу не художественного, а документального кино. Герц Франк и Юрис Подниекс – имена, которые Рига достойно предъявляет на мировом киноуровне. На уровне социальном картина ближайшего приятеля моей молодости Юрки Подниекса “Легко ли быть молодым?” – важнейший знак освобождения российской культуры.
Следующие семнадцать лет я прожил в Нью-Йорке – городе, который и есть кино. Именно он, а не Голливуд. Тут надо разобраться. Толковые еврейские ребята поступили совершенно разумно, основав киноимперию в Калифорнии. Там было все, что нужно: неосвоенные, а стало быть, дешевые территории; не зашоренные традициями и предрассудками люди; отсутствие пуританской морали, господствовавшей в начале XX века на американском Востоке. И главное – миф о золоте, которое в Калифорнии неленивые вынимают лопатами.
Однако штат, а тем более его самый населенный город, Лос-Анджелес, в кино, по сути, никак не отразились. Пресловутая “фабрика грез” потому и фабрика, что вся из цехов, то есть павильонов. Там можно построить что хошь – и строили. Вуди Аллен сумел разместить свой мир в двух десятках нью-йоркских кварталов – и это мир полноценный и самоисчерпывающийся.
Всегда было обидно, почему так мало экранизаций О. Генри. Есть выдающиеся – например, “Деловые люди” Леонида Гайдая. Но там только одна нью-йоркская новелла – “Родственные души” с Никулиным и Пляттом. Другие две – “Дороги, которые мы выбираем” и “Вождь краснокожих” – это Запад. Догадываюсь, в чем дело: и в случае Гайдая, и вообще о-генриевских экранизаций. Нью-Йорк – сам кино: такая съемочная площадка с непрерывным ритмом и рваным пульсом, что его не ухватить. Этому натурщику не прикажешь посидеть спокойно.
То-то Нью-Йорк не под силу никакому художнику (кроме все-таки О. Генри, он ухватил) – ни в литературе, ни в живописи, ни в кино. Вуди Аллен очень хорош в “Манхэттене”, в “Анни Холл”, в других нью-йоркских декорациях, но – это опять-таки двадцать кварталов, чаще всего вокруг Колумбийского университета. Мартин Скорсезе дал замечательный итальянский Нью-Йорк в “Злых улицах” – но только итальянский. Коппола в “Крестном отце” – выразительный, но снова итальянский бандитский. Неплох Бродвей у того же Вуди Аллена в “Пулях над Бродвеем” – но локален. Так слепые описывают слона: один взялся за хобот, другой за ногу, третий за хвост.
Дивным образом застывший в веках Париж кинематографу поддается. Город ведь тоже живой, но не меняющийся со второй половины XIX века, с перестройки, предпринятой тогдашним префектом бароном Османном – то есть до изобретения кино. Задавший тон Марсель Карне в своей “Набережной туманов” 1938 года продолжил плодотворную поэтическую традицию Бодлера, Верлена, Аполлинера – так до сих пор и идет по экранам реальный и малоподвижный Париж. Страшную историю рассказывал мне знакомый, сидевший по политическим делам в советские 60-е. Им в лагере раз в неделю крутили кино. Шла допотопная “Набережная туманов”, и сидевший рядом с моим знакомым человек схватился за сердце и рухнул на пол. Он родился во Франции в семье эмигрантов, после войны вернулся в победоносную, предполагалось – обновленную Россию, с вокзала отправился в лагеря – и вот увидел на экране окна своей квартиры.
Другая кинематографически плодоносная застылость – мой третий ближайший, после Риги и Нью-Йорка, город: Венеция. Он-то не меняется уже почти полтысячи лет. Все главное на местах с xvi столетия, а уж с XVIII века – наверняка. Есть альбом, где на каждом развороте слева – картины Гварди или Каналетто, а справа – современные фотографии: разницы нет. Тем не менее Венеция продолжает и продолжает оставаться излюбленным местом съемок кинематографистов всех стран. И правильно: нет города, располагающего большим количеством разнообразных ракурсов. Этим, можно вывести умозаключение, и определяется очарование города: числом точек зрения. Скажем, при пешем передвижении по Зубовскому бульвару в течение многих сотен метров перед твоим физическим и умственным взглядом не изменится ничего. В Венеции, с ее узкими кривыми улицами, пересеченными каналами и мостиками, при удвоении всех зданий в воде и игре солнечных бликов на стенах, новая картина возникает практически с каждым шагом. Я давно уже не беру с собой фотоаппарат, потому что его хочется выхватывать каждую минуту. И очень хорошо понимаю, как хочется направлять объектив кинокамеры на все это великолепие.
Венецию стали снимать на следующий год после открытия братьев Люмьер, в 1896-м: это был Альберт Промио. А лучшая, по-моему, кинокартина города – в Summertime («Летнее время”) 1955 года Дэвида Лина (автора “Моста через реку Квай”, “Лоуренса Аравийского”, “Доктора Живаго”): простая, непритязательная и внятная. А мне особенно дорогая, потому что в том самом месте, где в канал Санта-Барнаба свалилась Кэтрин Хепбёрн, однажды чуть не рухнул я, увлекшись выбором артишоков на овощной барже. Стандартно и нарядно показана Венеция во втором фильме бондианы с Шоном Коннери, в “Индиане Джонсе” с Харрисоном Фордом. Самый знаменитый венецианский кинофильм – “Смерть в Венеции” Лукино Висконти – тоже открывает мало нового. Зато подтверждает тягучую прелесть города, так убедительно сопровожденную выматывающим душу “Адажиетто” из Пятой симфонии Малера. Зато Венеция диковинная, необычная и при этом правдивая, с реальными гостиницей “Габриэли”, церквами Сан-Николо-деи-Мендиколи и Сан-Стае – в фильме Николаса Роуга 1973 года Don’t Look Now (“Сейчас не смотри”) с Джулией Кристи и Дональдом Сазерлендом. Там какой-то таинственный, хоть и в действительности существующий город, в котором, кажется, не предусмотрены Большой канал и площадь Сан-Марко, а только незаметные переходы и срезанные углы, по которому перемещаешься таким образом, что на тамошнем диалекте называется “ходить по подкладке”. Я научился так передвигаться по Венеции и горжусь этим – потому, наверное, особенно ценю картину Роуга.
Москву снять почти так же трудно, как Нью-Йорк: она подвижна, многолика, тревожна. Вспоминаются “Я шагаю по Москве” Георгия Данелия и его же “Мимино”. Странный диковатый (как в Don’t Look Now) город в фильме Александра Зельдовича “Москва”, лихо снятый оператором Александром Ильховским. И – пусть будет обидно для отечественных кинематографистов – не сильно выдающаяся во всем прочем картина 1990 года Russia House (“Русский дом”) Фреда Скепси с Шоном Коннери и Мишель Пфайффер. Там нет любви, есть интерес: видно, это главное. В конце концов, объектив ведь и называется – объектив.
Сага об исландцах
Гейзеры, о которых потом все спрашивают: “А это, ну как его, который фонтанирует, видал?” – пожалуй, самое бледное впечатление из всех памятных исландских достопримечательностей. Главный гейзер, так и называющийся – просто Гейзер (он дал свое исландское имя собственное всем гейзерам мира, сделавшись нарицательным), не извергается с 2000 года: какие-то тектонические сдвиги заткнули фонтан. Но рядом бьет другой гейзер – Строккур, примерно каждые шесть минут выбрасывая струю высотой до 15–16 метров. Но иногда – двух-трехметровую. Считается, что может достигать 25–30 метров. Чувствуешь, как тебя охватывает дурацкий азарт: когда взметнется струя? какой высоты? удастся ли поймать в кадр? Ну, шарахнуло, ну, вроде снял – потом на снимке ничего, кроме облака пара и перекошенных лиц разбегающихся зевак. И вообще, Строккур – лишь бронзовый мировой призер. Впереди два американских гейзера, с рекордсменом Steamboat’ом – 90–120 метров ввысь.
Если не гейзеры тут главное, то что же? По плотности природных чудес, их количеству на единицу территории Исландия в моем послужном списке занимает безусловно первое место. Водопады, горы, скалистые утесы, ледники, поля вулканической лавы, серные колодцы с клокочущей иссиня-серой жижей, термальные источники, киты, птичьи базары… Всего этого – бесконечно много в небольшой стране. Вся размером с Ростовскую область, с населением – в три раза меньше Ростова.
Так и непонятно толком, чем достигла такого необыкновенного процветания Исландия, северным своим краем касающаяся Полярного круга. Правда, смертельно холодно там не бывает – остров омывается ответвлением Гольфстрима. Но лютой жарой считается 18–20 градусов, что бывает не каждый год. Обычная температура июля – 10–15. Все-таки несомненный север. А всех полезных ископаемых – только горячая вода из-под земли и рыба в океане. При этом средняя месячная зарплата – 4 тысячи долларов. По ВВП на душу населения – 5-е место в мире. По уровню жизни – 2-е, после Норвегии и перед Швецией. Первые в мире места по мобильным телефонам на все ту же душу, по пользованию Интернетом. Последнее в мире – по уровню коррупции. Летом 2007 года европейская организация “Новый экономический фонд” обнародовала новую классификацию, в которой страны разместились по способности обеспечить своим гражданам долгую счастливую жизнь, – тут Исландия первая, опередив Швецию и Норвегию.
На глаз каждая вторая машина – джип и его модификации. Есть в стране национальная дорога № 1, идущая вокруг всего острова, но есть внутри и грунтовые, которыми пробираются к дачам – культура дачных домиков существует, как ни странно это осознавать, глядя на вполне дачную, двухэтажную столицу. Да еще зима, и полярная ночь – короче, все подталкивает к большим вездеходным автомобилям. Ну и главное – много денег. А уж из всех этих мотивов складывается мода. И вот не только в провинции, но и на столичных улицах – сплошь японские Land cruiser’ы британские Land rover’ы, немецкие BMW X5 или давшие имя всему виду крайслеровские Jeep’ы. Джипландия.
Здесь все дорого: жилье, одежда, еда, выпивка. Рука не поднимается заплатить в баре 15 долларов за бокал ординарного чилийского вина. Оставим эту печальную тему, и, чтобы ее окончательно похоронить, добавлю, что даже в магазине литровка местной водки из картофеля с добавкой тмина – бренневина – стоит 68 долларов. Цена взвинчена в борьбе с пьянством: не зря этикетка устрашающе черная. А эту бутылку надо еще суметь купить. Алкоголь продается только в монопольных магазинах Vin bud, которых 47 по всей стране. В Рейкьявике куда ни шло – они работают с 11 до 18, но вот в городке Вик на юге страны я зашел в магазин, открытый с понедельника до четверга один час в день – с 17 до 18, в пятницу с 16 до 19, в уик-энд закрыт вовсе. В обычных магазинах можно купить только слабое пиво, нормальное – тоже в Vin bud. Но ведь покупают, и пьют, и еще как, и вообще живут, и очень хорошо, богато.
Вот и бьешься над загадкой их преуспеяния. Ничего нет ни в земле, ни на ней: не растет. Расхожая шутка: если заблудился в исландском лесу – просто выпрямись. Из своих деревьев одни карликовые березы: метра полтора – уже гигант. Но идет впечатляющая кампания по посадкам, и в стране появляются целые рощи и перелески: привезенные из Сибири, с Аляски, с Альп березы, ивы, осины, липы, ели. Каждое лето сюда съезжается молодежь из разных стран – сажать деревья. Ландшафт заметно изменился за считанные десятилетия.
Повсюду в борьбе с эрозией почвы высажены травы и цветы – больше всего лилового аляскинского люпина, иногда сплошными шпалерами на сотни и сотни метров, так что исландское придорожье неожиданно напоминает Прованс с его полями лаванды. Как всегда в отношениях с живой природой, всего не предусмотреть: люпин украсил ландшафт и укрепил почвы, но овцы отказываются его есть – слишком горько. А пересаживать поздно: Исландия летом сделалась лиловой страной. Горько-лиловой.
Национальный цветок – мелкий бело-желтый ромашкоподобный горный гравилат, который повсюду. Тут цветы имеют обыкновение расти даже на плоском камне, вроде без трещин, но им, цветам, виднее. От этого нету ощущения северной пустынности: какое там, когда кругом в траве желтые ноготки, розовый ползучий чабрец, морская армерия, опять-таки розовая. В предгорьях – зеленоватые звездчатые шары анжелики: растения, примечательного более всего тем, что им ароматизируют водку. Из всех фруктов-ягод произрастают только черника и шикша.
Ищешь ответа и находишь подсказки, хоть бы этими деревьями и цветами, насаждаемыми с несравненным исландским усердием. Вот Акурейри – северная столица, ихний Петербург, стало быть. Здесь, у Полярного круга, самый северный на планете ботанический сад с вовсю цветущими в июле сиренью и маками. Вообще в Исландии культ всего летнего – что понятно, учитывая краткость теплого периода. Чуть выглянет солнце, как немедленно на тротуары выставляются столики кафе, а женщины ходят без чулок и с открытыми плечами – это градусов в тринадцать. Благодаря парникам, работающим на термальных источниках, в стране, где вовсе нет фруктовых деревьев, а на земле растут лишь картошка и капуста, множество не только своих овощей и фруктов, но и цветов. Рейкьявик броско украшают подвесные клумбы, укрепленные на уличных фонарях. И уж конечно красочный разгул в ботаническом саду в Акурейри.
По саду расставлены таблички со стихами исландских поэтов. В стране не просто поголовная грамотность, не просто первое в мире место по издаваемым книгам на душу населения – тут практически все умеют писать стихи. Великие образцы под рукой. Поскольку древненорвежский язык, на котором говорили пришедшие сюда в ix-XI веках викинги, за тысячу лет изменился мало, исландцы могут свободно читать свои саги. Мало литературы выразительней и самобытней. Какие имена! “Норвегией правил в то время Харальд Серый Плащ, сын Эйрика Кровавая Секира, внук Харальда Прекрасноволосого”. Или вот еще наряднее: “После убийства Эйольва Дерьмо и Храфна Драчуна…”
И уж конечно в сагах – не превзойденное никаким иным эпосом, простодушно-зверское описание кровавых битв: “Скарпсхедин подоспел раньше, ударил его по голове своей секирой и разрубил ему голову до зубов, так что они упали на лед”; “Торбьерн вонзил двумя руками копье в середину Атли”. “Они теперь в ходу – эти широкие наконечники копий”, – сказал Атли, принимая удар, и упал ничком на порог”; “Кольскегг рванулся к Колю, ударил его мечом так, что перерубил ему ногу в бедре. Тот стоял некоторое время на другой ноге и смотрел на обрубок своей ноги. Тогда Кольскегг сказал: “Нечего смотреть. Ноги нет, это точно”. А вот леденящий душу средневековый мультфильм: “Кари узнал его и, обнажив меч, кинулся на него и нанес ему удар по шее. Коль как раз отсчитывал серебро, и, отлетая от туловища, голова сказала “десять”.
То, что исландские викинги первыми побывали в Новом Свете, признается сейчас научным большинством. Американцы, отмечающие День Колумба как национальный праздник, приняли-таки Лейфа Эйриксона, достигшего Америки на полтысячи лет раньше Колумбовой экспедиции – в 1000 году. Возле самого высокого здания страны – 75-метрового храма Халльгримскиркья в Рейкьявике – стоит памятник Лейфу, подаренный Исландии Соединенными Штатами.
Вообще-то они похожи, генуэзец и исландец: оба попали не туда, куда собирались, – Колумб плыл в Индию, Лейф в Гренландию. Сага рассказывает об этом путешествии: “Долго его носило по волнам, пока не пригнало к странам, о существовании которых он и не подозревал. Там были поля самосеяной пшеницы и виноградная лоза”. Спор, что за земля это была, продолжается до сих пор. Понятно, что Америка, но где именно? Убедительные гипотезы называют нынешний штат Нью-Джерси и даже остров Лонг-Айленд, то есть современный город Нью-Йорк.
“Корабельная лодка была вся заполнена виноградом… Лейф назвал страну по тому, что в ней было хорошего: она получила название Виноградной Страны”. Умели привлекательно называть – Винланд: вино-то у них было только привозное издалека, бешено дорогое, а тут грузят в лодку, как сушеную рыбу.
Мастерство слова – виртуозное. Отец Лейфа – Эйрик Рыжий – за двадцать лет до исторического плавания своего сына открыл Гренландию, решил там обосноваться и был заинтересован в притоке переселенцев. Вот как описывает его блестящий пиар-ход сага: “В то лето Эйрик поехал, чтобы поселиться в открытой им стране. Он назвал ее Гренландией, ибо считал, что людям скорее захочется поехать в страну с хорошим названием”. По-честному надо бы поменять именами Гренландию и Исландию, Зеленую и Ледяную страны.
Когда осознаешь, в каких бытовых условиях жили эти викинги, закрадывается подозрение, что в путешествия просто-таки рвались. Жилище да и вся жизнь в Исландии – все изменилось, когда здесь научились перегонять воду из термальных источников для обогрева домов. Кипящая вода бьет из-под земли повсюду: то, что в других странах вызвало бы пожарную тревогу, тут нормальное зрелище – поднимающиеся клубы дыма. Только это не дым, а пар, вырывающийся с пронзительным шипением. Трубопроводы сооружены так, что на десятках километров температура падает всего градусов до восьмидесяти, и приезжих предупреждают быть поосторожнее с краном горячей воды – можно обжечься. Но все это начало развиваться только в 40-е годы XX века. До тех пор бились в тесных землянках.
Я был в тщательно, научно реконструированном доме Лейфа Эйриксона. Покрытая дерном крыша, сложенные из торфа стены с обшивкой из досок: Лейф – вождь, богач – мог позволить себе импортное дерево. В исландской мифологии аналоги Адама и Евы созданы из двух кусков дерева, прибитых морем к берегу. Это как же надо ценить древесину, чтобы возник такой миф!
Низкая узкая дверь ведет в тесное помещение с полатями по стенам: спали по двое. Топить-то нечем, согревались теплом друг друга. Полати несоразмерно короткие: чтобы набить в помещение побольше людей, спали полусидя. Идейно обосновывая бытовую потребность, викинги считали, что во сне лежа может остановиться сердце. Ладно, это тысячу лет назад. Но даже дом столетней давности – такие здания в назидание потомкам сохранены во многих местах – почти ничем не отличается. Те же торфяные стены и крыша из дерна, та же теснота, то же спанье по двое полусидя. Столовая была редкостью: ели, сидя на постелях, держа на коленях индивидуальный деревянный горшок с крышкой.
Разве не чудо, что полугодовыми полярными ночами в немыслимой холодной тесноте возникали идеи государственного устройства, принятые цивилизованным человечеством. В Исландии старейший в мире парламент – альтинг.
В долину Тингвеллир на две недели каждый год съезжались жители страны, чтобы принимать насущные решения стратегии и тактики. Альтингом парламент называется и в наше время, только расположен он в центре Рейкьявика. Поскольку депутатов всего 63, сложностей с акустикой в зале нет, а вот тогда, когда залов не было вовсе, высокая, широкая и крутая скала Легберг в Тингвеллире работала звукоотражателем, подобно тому, как использовались склоны холмов в древнегреческих театрах: выступающих слышали далеко вокруг. Из-под той же скалы 17 июня 1944 года была провозглашена независимая (от Дании) Республика Исландия.
В Тингвеллире занимались и другими серьезными делами. По тектоническому разлому течет речка, образуя пороги и затоны – в одном из них издавна топили неверных жен. Утоплено бессчетно, сохранились имена лишь 21 изменницы XVII–XVIII веков. Чтобы речка была поглубже, викинги пробили в скалах русло, так что струится красивый водопад. Заботливо думали о смерти – не о своей, о чужой.
Здесь же в 1000 году провозгласили принятие христианства. Как повсюду, язычество приспосабливало новую веру к своим обычаям. Собственно, язычество до сих пор окончательно не побеждено нигде, даже среди самых наихристианнейших народов, набитых суевериями, которые восходят уж конечно не к Писанию. Викинги понимали Иисуса как прибавку к сонму своих богов: “Слыхал ли ты, – спросила она, – что Тор вызвал Христа на поединок, но тот не решился биться с Тором?” Новый бог – теперь уже Бог – благословлял на то, что было принято и достойно раньше. В “Саге о Ньяле” рассказывается о слепце Амунди, который оказался в доме своего заклятого врага и уже собирался уйти: “Когда он проходил через дверь землянки, он обернулся. Тут он прозрел. Он сказал: “Хвала Господу! Теперь видно, чего Он хочет”. Затем он вбежал в землянку, подбежал к Лютингу и ударил его секирой по голове, так что секира вошла по самый обух… И как только он дошел до того самого места, где прозрел, глаза его сомкнулись снова, и с тех пор он оставался слепым всю свою жизнь”.
Господь выступает не Спасителем, не Искупителем, а подельником. Впрочем, точно так же у Гоголя в “Тарасе Бульбе” Иисус Христос сажает рядом с собой погибшего в бою атамана Кукубенко, который только что “иссек в капусту” другого христианина – правда, католика. Нормально: если я за Бога, то ведь и Бог за меня. Во всем.
По статистике, не менее половины исландцев верят в троллей, эльфов и упрятанных в горах “скрытых жителей”. Национальный спорт – этих существ выискивать в скалах и лаве. Они ведь могут принимать любое обличье – орла, лошади, человека, рыбы. В игру легко втягиваешься, и вот уже весь автобус на разных языках выкрикивает, тыча пальцами. Горы – как облака: увидишь что или кого угодно. На полях лавы вообще можно гадать, как на кофейной гуще, только ростом надо быть с гору. Или вертолет иметь.
Если бы меня зачем-то попросили назвать самую диковинную из исландских диковин, я бы выбрал поля вулканической лавы.
Гектары триллера. Наглядный пример диалектического перехода количества в качество: безобразие, доведенное до красоты. Тут и сложившиеся непонятным образом причудливые строения, которые так и называются – Черные замки. И недавняя, из извержений XX века, густо-угольная лава. И более ранняя, поросшая зеленовато-белесым мхом – словно километрами разложили цветные профитроли. Самая впечатляющая – Лава Берсерков – названа так не зря: кажется, эти каменные заросли могут пройти только бойцы того викинговского спецназа, впадавшие в самозабвенный раж, нечувствительные к боли, которые творили в бою богатырские чудеса, а потом их сутками было не добудиться. До сих пор не ясно, чем так заводились берсерки: то ли гипнотическим внушением, то ли мухоморами.
Хрусталик глаза, натренированный на средиземноморских пейзажах, с трудом преломляет зрелище лавы, поля которой в Исландии всюду – 11 процентов территории страны покрыты ею. Вот Василий Розанов пришел от лавы, которую видел на склонах Везувия, в ужас: “Лава гадка. Есть для нее неудобное в печати сравнение. Черные горы навалены одна на другую, ползут, скашиваются, переламываются, пучатся пузырями и пещерами и, наконец, вьются переплетающимися жгутами, очевидно, вчера жидкие и огненные, сегодня черные и холодные”. Розанов пишет в 1901 году. Другая эстетика, основанная на гармонии. Когда позади XX век, с его катаклизмами в жизни и в искусстве, представления о прекрасном не то что изменяются, но расширяются сильно.
Насмотревшись на горы, лаву и водопады, понимаешь, что главная наука для Исландии – геология. Вулканы разрушают, лава покрывает, термальные воды греют. Исландцы считают, что их катаклизмы оказали мощное влияние и на мировую историю. Грандиозное извержение вулкана Лаки в 1783 году донесло до Франции облака пепла, которые уничтожили урожай и вызвали народные волнения, завершившиеся Великой французской революцией. Не сказать, чтобы общепризнанная теория.
Вообще-то Исландия, находящаяся, по замечательному английскому выражению, in the middle of nowhere, посреди нигде, держится особняком, предназначенным ей географией. Правда, на карту мирового масскульта она попала еще в 1864 году: со снежной вершины Снефелсйокюль на узком полуострове Снефелснес, вдающемся в Атлантический океан, начали свою авантюру герои романа Жюля Верна “Путешествие к центру Земли”.
Исландия редко принимает участие в важных мировых делах, не попадает на первые полосы газет. Даже в Европейский союз не вступает, потому что тогда ей пришлось бы соотносить с другими права и акватории рыболовства – главного промысла страны. С рыбой как раз и связано попадание Исландии в выпуски новостей. Это так называемые Тресковые войны с Великобританией. Исландцы с 50-х годов расширяли зону своих территориальных вод: в 52-м – до четырех морских миль, в 58-м – до двенадцати, в 71-м – до пятидесяти и, наконец, в 75-м – до двухсот миль. Всякий раз англичане были не согласны и продолжали ловить треску в местах очередного запрета. Сети срезались, траулеры таранились, шли перестрелки с участием катеров исландской береговой охраны и британских военно-морских кораблей. Все утихло в 76-м: Лондон признал 200-мильную зону.
Что до российского человека, его внимание Исландия захватывала дважды. В 1972 году в Рейкьявике игрался матч за титул чемпиона мира по шахматам. Американец Бобби Фишер на пути сюда вдребезги разнес Тайманова, Ларсена и Петросяна, в Исландии встретившись с действующим чемпионом Борисом Спасским. Возбуждение в советской прессе было огромное, Фишера заранее уничтожали, что с издевательской лихостью запечатлел Высоцкий: “Не мычу, не телюсь, весь – как вата. / Надо что-то бить – уже пора! / Чем же бить? Ладьею – страшновато, / Справа в челюсть – вроде рановато, / Неудобно – первая игра”. Спасский достойно сопротивлялся, но победил Фишер – 12,5:8,5.
Второй раз Рейкьявик вошел в российскую жизнь эпохально. Судьба страны, да и мира – без всякого преувеличения, именно судьба и именно всего мира – решалась в скромном, едва ли не деревенском доме на берегу океана в стороне от центра столицы страны, “посреди нигде”. Двухэтажный дощатый Hofdi Hous — одно из двух самых важных в российской истории зданий. Первое – Зимний дворец в Петербурге, с захвата которого в 1917-м началось превращение России в СССР; второе – Хефди Хаус в Рейкьявике, со встречи в котором Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в 1986-м началось возвращение СССР в Россию.
Сейчас русские тут редки. Даже разведчикам Исландия ни к чему. В феврале 2007 года окончательно покинула остров американская военно-воздушная база в Кефлавике, недалеко от международного аэропорта. Я даже взгрустнул. В начале 70-х на срочной службе в полку радиоразведки советской армии подслушивал переговоры американских баз в Европе с самолетами, каждый день в течение двух лет записывая позывные: Keflavik air-ways! Keflavik air-ways! Давно нет той воинской части в Риге, а теперь вот и базы в Кефлавике.
Наш гид, уроженка Маврикия Бьянка Мишел, вспомнила одного русского, когда мы вышли на черный пляж из вулканического песка и гравия. Скалы там стоят невиданными каменными букетами, наклоняясь иногда над водой – с них бы и прыгать. Но куды – вода в июле 5 градусов. “В прошлом году, – говорит мне Бьянка, – в группе был один русский, он пошел купаться”. Застегиваясь поплотнее, приосаниваюсь: русский след.
Следа этого мало, но есть: самый, вероятно, известный в мире исландец – разумеется, после певицы и актрисы Бьорк – пианист и дирижер Владимир Ашкенази. Выиграв в 1962 году Конкурс имени Чайковского, он в следующем году уехал из СССР, женившись на исландке, и впоследствии стал гражданином Республики Исландия. Когда мы ездили по стране, я за завтраком в отелях прилежно рассматривал утренние газеты, разбирая кое-что в разделах погоды и спорта. Однажды утром увидал крупный портрет Ашкенази и попросил гида разъяснить – по какому поводу. Оказалось – юбилей, семидесятилетие. Когда Бьянка узнала, что я с ним немного, но знаком, заметно зауважала: тем более ее муж – местный композитор и музыкант.
В старые времена русский след был отчетливее. Читаю в саге: “Халльдор, сын Снорри, был в Миклагарде с Харальдом конунгом… и приехал с ним в Норвегию из Гардарики”. Этот Харальд был женат на Елизавете Ярославне, дочери Ярослава Мудрого, при дворе которого в Киеве долго жил. А Гардарики – это Русь. Хорошее имя – веселое, безобидное. Эти норвежцы и исландцы и были теми самыми варягами, о которых до сих пор не ясно – не столько историкам, сколько идеологам истории: хорошие они или плохие, их позвали или они сами пришли, в наемниках они ходили у русичей или в начальниках. В целом упоминания о наших предках в сагах редки и малозначительны: “На Торкеле русская меховая шапка”.
Свои меха тут тоже есть: единственное подлинно исландское животное – песец. Остальных завезли, и они расплодились на приволье. Множество овец и лошадей. По закону, овцы могут бродить где угодно, они и бродят – бессмысленно забираясь на высоченные скалы и уходя туда, где нет ни одного строения на протяжении десятков километров. Ну, летом там и ночуют, но к зиме-то их надо собирать. Овец сгоняют с помощью лошадей – это единственное практическое их применение. При том, что конское поголовье страны – несметное.
Немного продают за границу – в северные страны, где ценятся невысокие, крепкие, привычные к холодам лошади. Ну, катают туристов: популярность набирают конные туры. Ну, катаются сами. Ну вот, загон овец – но сельским хозяйством в стране занимается один процент населения, то есть три тысячи человек. Пока что традиционные промыслы приносят доход, рыболовство в первую очередь. Тридцать пять процентов валютных поступлений – от рыбы, но уже тридцать – от туризма, и отставание сокращается. А уж фермы вовсю переделывают в отели – в одном таком, замечательном, мы ночевали. Объяснение изобилию лошадей одно – страсть. Национальная гордость. Вам наперебой расскажут, что у всех лошадей мира четыре аллюра, а у исландской – пять. Помимо шага, рыси, галопа и иноходи – еще какой-то “тельт”, шаг-бег, такой плавный, что всадник сидит как на стуле. Зрелище и вправду странное, особенно когда на конском шоу запускают музычку кантри местного извода.
А вот собак очень мало. Можно предположить, сказываются три фактора: нижайшая плотность населения, где все друг друга знают – некого остерегаться; отсутствие хищников; нет растительности на открытых пространствах, что позволило использовать для загона овец лошадей, а не собак, как повсюду.
Остальная живность – в небе и в воде. Даже не пытался я разобраться в многообразии птиц – всех этих чаек, крачек, трясогузок, овсянок. Выбрал себе любимца – красноклювого puffin’а, который по-русски обидно именуется “тупик”. Хоть бы “пуфик”. Он ведь еще и съедобный и вкусный, один недостаток: в рейкьявикском ресторане “Лакьярбрекка” – 65 долларов порция.
Птицы живописно гнездятся в прибрежных скалах, изрезанных так прихотливо, что кажутся увеличенными пляжными скульптурами из песка: дворцы, арки, мосты, башни. Скалы к тому же в живописных белых разводах – даже экскременты тут красивы. В изящной бухточке приткнулся рыбный порт Арнастапи, где с кораблей выгружают треску, – все беленькое, аккуратненькое: не рыболовство, а чистописание.
Повсюду вдоль берега обнаруживаешь останки китов. То часть хребта, то челюсть длиной метра два. На китов охотились издавна и продолжают охотиться. Китовые стейки подают в дорогих ресторанах Исландии (как и Норвегии) – если не знаешь, подумаешь, что говядина. Хотя во всем мире в 1986 году был наложен запрет на коммерческий китобойный промысел, Норвегия, Япония и Исландия так или иначе его нарушают. В исландском случае это по меньшей мере странно: туристы, выходящие на катерах смотреть китов из Рейкьявика, Хусавика и других портов, приносят в пять раз больше дохода, чем охота.
Я выходил в такой трехчасовой рейс. Смотреть китов – дело азартное и рисковое: не в том смысле, что опасное, а что ненадежное. Днем раньше с нашего корабля не увидели ни одного кита – у нас же их было много. Четыре-пять китов появлялись на поверхности раз тридцать: иногда над водой мелькал лишь хвост, иногда, блестя на солнце лакированными боками, с грузной грацией отставного спортсмена не столько выпрыгивала, сколько переваливалась вся китовья туша.
Не менее увлекательно было следить за группой молодых японцев, которые, заплатив за поездку немалые деньги и послушно облекшись в теплые комбинезоны и прорезиненные оранжевые плащи, все три часа играли в карты, не повернувшись к океану. Похоже, они получили не меньшее удовольствие, чем остальные: лица, во всяком случае, у них были счастливые – а это ведь главное, правда? И вели себя тихо – когда все отчаянно вопили при каждом появлении китов, от картежников лишь изредка доносилось сдержанное страстное мычание. Да и то сказать – не концерн же “Мицубиси” был там на кону.
В океане больше всего ловится треска, а в мелких и быстрых исландских реках столько лососей и форелей, что в стране свыше десятка речек по имени Laxa, что значит Лососевая. Стоимость лицензии на ловлю, в зависимости от обилия рыбы, условий обитания, снаряжения и, главное, от моды данного сезона, колеблется от 300 до 4000 долларов в день. Повторяю для слабовидящих: четыре тысячи долларов в день на самой престижной Лаксе, лососевом Куршевеле.
В школе бы отдельной дисциплиной изучать этот народ, построивший процветающее свободное государство среди ледников и вулканов. Никакого другого ответа на вопрос об исландском богатстве нет, кроме самих исландцев.
В центре страны – немереные незаселенные пространства. С севера на юг едешь по пустынному плоскогорью. Справа и слева – снежные вершины. Посредине – ничего. Ни-че-го. Плоские нашлепки бледной травы на камнях, крохотные белые и розовые цветочки. За двести километров встретились четыре велосипедиста и три джипа. Непонятно. Где-нибудь в Гоби кругом и живут, как положено в Гоби. А тут – богатейшая страна мира. Не осознать.
За Голубой горой робко начинается зелень – даже удивляешься: отвык. Исландцы издавна привыкли верить в “скрытых жителей”, обитающих в скалах. Они такие же, как мы, только нет вертикальной впадинки между носом и верхней губой. Живут так же, ведут хозяйство, обзаводятся семьей, только их не видно. Иногда они выходят в человеческий мир и помогают людям, прося что-нибудь взамен. Может, благосостояние в Исландии построили “скрытые жители”? Но что же они потребовали за это?
II. За скобками года
Город Старика Хоттабыча
Настоящая жизнь Сочи началась в годы НЭПа, а расцвела при Сталине. Эти два временных обстоятельства, а не только пляж (галечный, неважный по качеству) и море (часто бурное, до середины июля довольно холодное) надо держать в памяти, обсуждая примечательность единственного большого российского курорта.
То теплое, что досталось сократившейся стране, тянется всего на 400 километров вдоль Черного моря от Тамани до Адлера. И если едешь на машине, то на развилке в Джубге подумаешь-подумаешь и свернешь все-таки не на север, к Геленджику и Анапе, а на юг, к Сочи.
Что до сувениров-трофеев, они по всей черноморской России одинаковы: 1) ракушки – непригодные, но непременные для пепельниц; 2) розы в коробках, начинающие вянуть уже в самолете; 3) кубанское вино, равно безрадостное в розлив и бутылочно; 4) вкусные и красивые чурчхелы, которые делают не только из виноградного и гранатового сока, но по-декадентски из абрикосов, персиков и груш.
Что до климата и условий, на севере подичее, кто любит, на юге – покомфортабельнее, не говоря о субтропиках с 60 процентами солнечных дней, цветущей магнолией с мая по октябрь и собой самим на неизбежной горе Ахун, где до тебя снимались миллионы, так и ты снимись и всем безжалостно разошли.
Однако для любителя основная приманка Сочи не в этом. Здесь – заповедник былого величия. Такие можно разыскать и в других местах, но в Москве все разбросано да и заслонено новым гигантизмом; центр Минска – в другой стране; в Комсомольск-на-Амуре не долететь. Сочи – концентрат. ВДНХ, растянутая узкой полосой вдоль моря. Ампир на ампире и ампиром погоняет. Большой Сочи – 145 км от Шепси до Псоу (не пугаться – это названия рек). Но главное – от реки Мамайки до пансионата “Светлана”: десять километров побережья, десятикилометровый Курортный проспект.
Начать стоит с сада-музея “Дерево дружбы”. Посаженный в 30-е (хорошее словосочетание!) цитрусовый интернационал: 45 видов лимонов, апельсинов и пр. на одном стволе. Однако дружба тут не грейпфрута с мандарином, а тех, кто делал прививки, оставляя бумажки с именами: Гагарин, Хо Ши Мин, Поль Робсон, весь чемпионат СССР по шахматам – 1300 дружб. Подсуетились как-то и Ломоносов с Дарвином – не стоит задумываться как: ты уже в мире мечты, терпи.
Не пройти мимо музея по точному адресу: дом Островского на улице Корчагина. В конструктивистском особняке писатель успел прожить всего год до смерти. В 50-е построили музей в том стиле, который назвали сталинским ампиром. Именно в начале 50-х этим монументальным военизированным классицизмом триумфально застраивали Сочи – Морской вокзал, вокзал железнодорожный – по образцам конца 30-х (Зимний театр).
Более всего классическая сочинская эстетика разгулялась в привилегированных санаториях, что понятно: простой житель страны мог самым буквальным образом сойти с ума. Не зря же в фильме “Старик Хоттабыч” несчастный волшебник, попадая в Сочи, решает, что очутился во дворце султана. Мраморные дуги лестниц, бронзовые фонтаны, фрески, мозаики, лепнина, колонны (предпочтительно коринфского ордера: капусты больше). Попав в начале 90-х в одно из таких чудес, я обошел внутренние покои, где оказалось скромнее, но с достоинством, – на черной доске выбито золотом: “Кефир 22:00–22:30”.
На последнем сочинском “Кинотавре” показывали фильм Юлия Гусмана “Парк советского периода” – о некоем Диснейленде, где за приличные деньги можно на две недели переместиться в дотошно воспроизведенное прошлое. Картина снималась в Сочи. Содержание фантасмагорическим не представляется.
За скобками года
Мы с приятелями проехали перевал Доннера в горах Сьерра-Невады, постояли у мемориальной доски в память группы переселенцев из Иллинойса, которые застряли здесь в снегах зимой 1846 года. Их было девяносто человек, они разбили лагерь, постепенно съели всех вьючных животных, потом собак, кожаную одежду, затем принялись за умерших товарищей. 48 полубезумных выживших предстали после перед судом по обвинению в убийстве и людоедстве и были признаны невиновными: такие лишения лишают рассудка.
После этой бездны подавленный выезжаешь к баснословной красоте и покою озера Тахо, как к оазису покоя и благополучия. Гигантское, в пятьсот квадратных километров, неподвижное, ослепительно изумрудное зеркало, окруженное соснами. Вода прозрачна так, что кажется: все пятьсот метров глубины просматриваются насквозь.
Мы двинулись по берегу, ища место поуютнее, и оторопели. Вдруг, словно споткнувшись, исчезли сосны и пошли дома впятеро выше деревьев, пустынный берег резко перестал быть таковым, усеявшись какими-то непляжными людьми с нездоровым цветом лица. Наконец мы поняли: въехали из Калифорнии в Неваду – единственный в США штат, где разрешены азартные игры. Вот здесь тебя арестуют за простой блек-джек, а через два метра упрешься в шикарное казино. Мы опрометью бросились назад в калифорнийскую глушь и остановились в Скво-Вэлли.
Впервые я попал в столицу зимней Олимпиады. Закрыт каток. Пустуют все сто горнолыжных трасс. Из тридцати трех подъемников работает один, и на нем поднимаешься в гору, откуда озеро Тахо становится еще величественнее. Глядя на всю неработающую спортивную мощь, отели, рестораны, магазины, кафе, из которых открыта едва одна десятая часть, легко воображаешь, что тут творится с ноября по апрель, что творилось в 1960-м, когда здесь проходили Олимпийские игры. Того, что открыто, тебе и таким, как ты, хватает, и ты бродишь по этой заброшенной роскоши, как по покинутому обитателями дворцу – он весь твой.
С тех пор я бывал в других олимпийских городах: в зимних – летом. В Лейк-Плэсиде на севере штата Нью-Йорк, Иннсбруке в австрийском Тироле, Лиллиехаммере в Норвегии, Гармиш-Партенкирхене в Баварии, Кортине-д’Ампеццо в итальянской провинции Венето, каждый раз убеждаясь, что именно “непрофилирующий” сезон придает главную прелесть месту. Так человек открывается ярче всего не в профессии, а в хобби. Ремесло может быть случайным: родители заставили поступить в определенный институт, переехал в другой город и сменил специальность, пошел туда, где больше платят, и т. д. Хобби же натужным не бывает, быть не может: выбирается по влечению души. Так и города интимнее, трогательнее, убедительнее открываются не парадной, а изнаночной своей стороной.
То же относится и к летним курортам, в которые так интересно приезжать зимой. Пустая каннская набережная Круазетт. Ветер, один гуляющий по пляжу в Марбелье. Заколоченные дачи Куршской косы. Щемящее обаяние Ялты в декабре. Мое Рижское взморье, куда я, повзрослев, никогда не приезжал летом. Человек оживляет и украшает пейзаж, но обилие людей его уничтожает. Помимо этого, есть еще одно обстоятельство, которое афористично выразил Иосиф Бродский:
Приехать к морю в несезон,
помимо матерьяльных выгод,
имеет тот еще резон,
что это – временный, но выход
за скобки года…
Ты переворачиваешь время собственным своеволием, и ощущение волшебной силы придает тебе гордости и восторга.
Самый западный русский город
В прошлом, что ли, году я в очередной раз приехал в Карловы Вары – как всегда, в дни кинофестиваля, – поселившись в гостинице “Кривань”. Портье, с которым я объяснялся по-английски, заметно страдал, а когда выяснил, что владею русским, даже рассердился. Подняв палец, назидательно сказал: “Надо понимать – Карлови Вари русский город”.