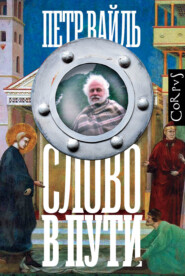скачать книгу бесплатно
Сейчас сюда стекаются смотреть на то, что осталось. Не надо преуменьшать: осталось очень много. Удваивающая все вода лагуны и каналов. Удвоенные водой дворцы, храмы, мосты. Мини-музеи мирового класса в каждой церкви. Немыслимая для большого туристского города тишина. Прекрасные овалы женских лиц. Изысканность осанок и облачений. Благородство толпы – что вообще-то есть парадокс, оксюморон, вроде черного снега.
Снега в новогодней Венеции ждать не стоит, а вот нарядная новогодняя толпа здесь празднична и сдержанна – тоже парадокс. К одиннадцати заполняется Пьяцетта – площадь, соединяющая Сан-Марко с набережной. Здесь рассаживаются на ступенях Библиотеки Марчиана, под колоннадой Дворца дожей, на сложенных в штабеля деревянных мостках, припасенных на случай подъема воды. Шампанское ударяет с первым залпом фейерверка, равного которому по веселой изобретательности не сыскать.
В последние годы толпа на Сан-Марко с демографической неизбежностью становится все гуще, и я уже присмотрел другое местечко, откуда все выглядит не хуже, а народу поменьше – по понятным мотивам не скажу где. Там мы с друзьями встречали 1999-й и 2000-й, там я подвергся объятиям местного населения с криками “Санта-Клаус, спасибо за подарки!”. Такая судьба: к востоку от Карпат обзывают Карлом Марксом, к западу – Санта Клаусом. Хорош выбор.
“Свои” местечки найдутся у каждого, кто бывал в Венеции больше одного раза: таков этот прихотливый и никогда никому не раскрывающийся до конца город – потому и для всякого свой.
Опытный путник не станет толкаться по избитому маршруту Сан-Марко – Риальто и оттого увидит настоящих венецианцев. В городе без наземного транспорта (нет даже велосипедов), где нельзя плюхнуться на сиденье такси и показать адрес на бумажке, конечно, боязно отходить от проторенных троп. Привычно только на острове Лидо, прославленном пляжами, казино, “Смертью в Венеции”, кинофестивалем. Но это Венеция ненастоящая: здесь ездят машины, ходят автобусы. Необходимо уйти в глубины районов Кастелло, Канареджио, особенно Дорсодуро, чтобы взглянуть на город и горожан, хоть бегло понять – каков их облик. Облик неслучаен и выношен. За каждым нарядом – века ритуала, то, что мы неуклюже называем соответствием формы содержанию.
Когда венецианская инквизиция пришла в 1755 году арестовать Казанову за вольнодумство, он долго и тщательно совершал туалет, будучи уверен, что красиво и дорого одетый человек не может выглядеть виновным. Однако инквизиторы оказались лишенными эстетического чувства, и 15 месяцев Казанова просидел в Пьомби – страшной тюрьме под свинцовой крышей Дворца дожей. И вот тут – лучший в “Истории моей жизни” пассаж. Казанова совершает невозможное – побег из Пьомби: героический поступок, который для любого другого стал бы содержанием и рассказом всей жизни. Совершив акробатические трюки и атлетические подвиги, изодранный, окровавленный Казанова вырывается на волю, наскоро переодевается и выходит к лагуне: свобода! “Повязки, выделившиеся на коленях, портили все изящество моей фигуры”. Кто еще в мире способен на такую фразу?!
Казанова не хвастлив – слишком красноречива сама его жизнь. Оттого так заметно выделяется трогательное самодовольство, с которым он рассказывает, как дарил своим любовницам наряды, сам выбирая их: “В размерах я не ошибся ни разу”.
Так вот и хотелось бы прожить – чтобы не было мучительно больно за ошибки в размерах. Прежде всего – в своих собственных. Я говорю, разумеется, о масштабе личности.
Стол как холст
Масштабы меняются – людей, стран. За последние десятилетия сильно и разнообразно выросла Япония.
Лучшие месяцы для посещения страны – апрель и ноябрь. В это время с места снимаются все, отправляясь кто в соседний парк или ближайший лес, кто за сотни километров в специально выбранные места для созерцания. Человек западной (европейской, американской, русской) культуры тоже время от времени куда-то едет что-то смотреть, что, как правило, оборачивается образовательным по своей сути знакомством с произведениями человеческого гения – Джокондой или Парфеноном. В Японии же возведено в ранг национальной институции простое поглядение на цветы и листья. В апреле цветет сакура. В ноябре желтеет листва.
Новый год здесь примечателен разве что невообразимым числом открыток, которыми обмениваются японцы. Социальный статус человека определяется количеством полученных им новогодних поздравлений. Забывчивость ведет к разрыву отношений, небрежность – к ссоре. В последнее время разврат сервиса поразил и японцев, к чьим услугам открытки с готовым типографским текстом. Однако человек приличный возьмет все же авторучку, а человек тонкий – кисточку и тушь.
Я аккуратно посылаю такие поздравления своим японским знакомым, но ездить туда стараюсь в апреле или ноябре. Япония возникает в рождественско-новогоднем сюжете по той причине, что в эти праздники – едят. Едят и в другие, но зимой все располагает к еде долгой и обильной…
Конец века отмечен триумфальным маршем дальневосточной кулинарии – с постепенным смещением от материка к полуостровам и островам. Богатейшее китайское искусство еды чуть отодвигается перед напором более сдержанных в материалах и методах вьетнамской и тайской кухонь, перед лаконичной минималистской японской. В Нью-Йорке за минувшие два-три года едва ли не удвоилось количество японских заведений. Что важно отметить – даже не ресторанов, а закусочных, забегаловок. Мест, где получаешь чашку лапши – пшеничной (удон) или гречишной (соба) – в бульоне и, разумеется, суши. Смена столетий проходит под знаком суши – катышка вареного риса с куском сырой рыбы.
Дело не только в несомненной питательности рыбно-рисового сочетания. Дело в эстетике. У японцев господствует отношение к еде как к красоте. Стол – как живописный холст: пустоты играют в нем такую же содержательную роль, как и предметы. Японский накрытый стол, поставленный вертикально, можно обводить рамой.
Предел гастрономического лаконизма – в чайной церемонии. Подается не торт или пирог, перебивающие все вкусовые акценты, а маленькое печенье по сезону: весной – в виде цветка сакуры, осенью – в виде хризантемы. Самого чаю – чуть: зеленая горечь, взбитая в пену венчиком вроде помазка для бритья. То, во что наливается напиток, не менее значительно, чем содержимое: обряд предписывает отдельное любование чашкой. И – вот подлинный урок для литератора – триумф композиции над сюжетом. Что за чем – существеннее, чем что. Порядок угощения важнее угощения.
В общем, не наешься и не напьешься. Вкусно, но мало. Нет, все-таки мало, но вкусно.
Пожалуй, это и можно счесть формулой японского застолья. Формулой его всемирного успеха.
Понятно, что при таком переносе усилий с насыщения физического на насыщение эстетическое особое внимание уделяется всем сопутствующим процедурам: до, после и во время самого поглощения пищи. Японская рукотворная красота еды – и в подаче и в подготовке.
Самая дорогая говядина в мире – “мраморное” мясо из Кобе. Корове подносят пиво, делают ей массаж, разговаривают с ней – размеренно и негромко. В суши-барах работают только мужчины. У женщин температура тела чуть выше – всего, кажется, на полградуса, – но и такое отличие пагубно сказывается на рисе и его сочетаемости с рыбой. Рис для суши сдабривается малой толикой рисового же уксуса – для придания легкого аромата. Совсем чуть-чуть – так пользуется духами женщина со вкусом. Тонкие розовые лепестки маринованного имбиря играют роль шербета – освежают нёбо и гортань, готовя к следующей закладке. Ножи для разделки рыбы холят и лелеют, словно именное оружие. Они и есть именное оружие повара, буквально блестящий знак его доблести.
Специальной разделке подвергается рыба фугу – предмет вожделения кулинарных камикадзе. Ежегодно в Японии умирают от яда фугу более сотни человек. При правильной разделке рыба безопасна, но смертельные ошибки случаются, и, казалось бы, чего проще – не есть ее вовсе, полно других. Но такое было бы слишком просто. Да и теория вероятностей дает благоприятные шансы. Взять того же меня: я съел в Киото суши из фугу, и ничего, никакой мемориальной доски на том заведении в Арасияма на берегу реки Кацура.
Идея сырой рыбы недолго смущает воображение новичка-европейца, воспитанного на варке, жарке, тушении и запекании. Прежде всего – это вкусно. И далее – это тонко. (Только в скобках упомяну отвратительное мне слово “полезно” – сырая рыба действительно полезна, но, по моему глубокому убеждению, полезно то, что вкусно: что поглощается с удовольствием, то и идет впрок.) Естественно, первое условие тут – свежесть.
В последний раз я разместился в Киото возле храма Тофукудзи в риекане – традиционной гостинице, где ложем служил расстеленный на полу футон, под голову помещалась макура – наволочка, набитая гречневой крупой (должна за ночь прочищать мозги, я что-то не заметил), из мебели стоял столик высотой в ладонь. Через дорогу был суши-бар, где человек в высоком колпаке время от времени отказывался меня обслуживать по утрам, тыча пальцем в настенные часы: мол, приходи позже, не кормить же тебя вчерашней рыбой.
При всем том как раз в Киото – самая интересная в стране рыбная кулинария. Расположенный сравнительно далеко от моря – редкость для островной Японии, – город вынужден был придумывать для рыбы, которую сюда тащили через горы не одни сутки, различные способы сохранности: солить, вялить, мариновать, сушить. В заведении “Нисимура”, возле университета, я ел вяленую селедку в бульоне с лапшой. Описание блюда способно повергнуть в уныние или отвращение – в зависимости от темперамента, – но прошу поверить: вкусно. Не может быть невкусно уже потому, что за этим стоят столетия традиции.
Киото – традиция в наиболее вызывающем виде. Дело в том, что город на первый взгляд – совершенно современен. Не в той, разумеется, степени, как Токио. Все же Токио служит столицей последние почти полтораста лет, а Киото был ею десять веков. У Киото больше за плечами. Но старина здесь по-японски упрятана в современность, и новичок поначалу недоумевает: где же обещанные путеводителем две тысячи (!) храмов и святилищ? Они на месте, но их надо с умом и желанием искать и находить, получая гарантированное вознаграждение. Вот там, в монастырских садах, скрывшихся от времени, – лучшие места для гурмана. Потому что гурманство здесь – многослойное: ты ешь нечто вкусное, легкое и красивое, сидя на циновке, расстеленной на деревянной террасе в саду с видом на пруд, где тихо квакают лягушки. Вдруг на миниатюрном бесшумном водопаде звонко щелкает колено бамбукового желоба – и это единственное напоминание о том, что время все-таки течет.
Более наглядная старина – в квартале Гион. Здесь знаменитые матинами – деревянные планочные дома, такие, какими они были и пятьсот лет назад. Считанные метры по фасаду и до сорока метров в глубину, эти “спальни угрей”, как их называют, таят в себе дорогие тонные заведения с гейшами. Европейцы долго путали их с гетерами, пока не зауважали, разобравшись, что гейша призвана услаждать ум и душу, но не тело. Стихи, музыка, каллиграфия, чайная церемония, сервировка – приложение сил гейш, которых очень мало, и все в возрасте, поскольку учиться надо, по сути, всю жизнь. Гейши приезжают на машинах, быстро проскальзывая в раздвижные двери; на улицах Гиона можно встретить и рассмотреть только их учениц – майко: тонкие, почти прозрачные фигурки с набеленными лицами, сохраняющими любезную бесстрастность, когда турист просит сфотографироваться рядом.
В традиционном городе – изысканная еда. Что естественно, коль скоро кулинария – такое же достижение культуры, как поэзия и живопись. Блюда здесь именно что поэтичны и живописны.
В Киото подают суши, завернутые в листья хурмы: сами листья не едят, но рыба и рис пропитываются тонким особым ароматом. Используются и листья бамбука, персика, гингко: аромат различается. Точнее, должен различаться, но к этому пониманию надо взмыть. Моя провожатая по Киото – аспирантка-славистка Казуми Китагава – привела меня в закусочную на “Философской тропе” по пути от храма Гинкакудзи к храму Нанзендзи, где суши тоже были завернуты. Развернув и попробовав, я сказал: “Эти совсем другие”, имея в виду, разумеется, форму листьев. Казуми восторженно отозвалась: “Я знала, что вы сразу определите! Конечно, вы услышали аромат гингко!” Ага, прям щас взял и услышал. Но кто меня осудит за то, что я трусливо промолчал, только закатил глаза в блаженстве. Гингко же!
Как с английским газоном: чтоб достичь такого качества, надо стричь и поливать, стричь и поливать – и так пятьсот лет. Постижение японцев, достижение их уровня – дело безнадежное.
При всем этом японцы едят много, часто и увлеченно – таков один из первых культурных шоков, переживаемых в стране. Лелеемой в мечтах и вроде бы обязательной Фудзиямы не видать – она все время в туманной дымке, а вот еда мозолит глаза с утра до вечера. Правда, умудряясь при этом не мозолить желудок: лаконизм в японской кухне главное – суши не щи. (Хотя есть и подобие щей – набэ и его вариации: суп с капустой и рисовой разновидностью спагетти.) Едят тут еще и громко: в простых закусочных, где подают бульон с гречишной или пшеничной лапшой, шум стоит, как у плотины. Этикет не только не запрещает, но и предписывает хлюпать: значит, вкусно.
Так делают японцы, а стало быть, стоит принять во внимание. Вот чему учит Киото – вере в традицию, даже чужую, даже странную.
Расширение мира нарушает устоявшуюся иерархию ценностей, а живот ближе к сердцу, чем голова. И легче привыкнуть к мысли о том, что есть не менее читающие страны, чем признать превосходство шведской водки, итальянских белых грибов, норвежской лососины. Но в кулинарном мировосприятии нет места комплексу государственной неполноценности, тут господствует комплекс основных человеческих чувств – вкуса, обоняния, осязания, зрения. Оставим слух идеологии. На гастрономической карте мира свои масштабы, они меняются, и маленькая Япония у берегов огромной Евразии становится все больше и больше.
Портвейн у камина
Крайний противоположный евразийский берег – Лиссабон. Он из тех немногих городов, которыми можно влюбленно увлечься. Не восхититься, не прийти в восторг, не полюбить даже, а именно испытать чувство влюбленности, приправленное нежностью и жалостью. Для столь интимной эмоции требуется неполное великолепие объекта. Некая изношенность, временная патина, признаки распада. Так бывают дороги потертый диван, поношенный халат, полинявшее платье.
Естественно, таких городов больше всего в Италии. “Естественно” – потому что из Италии все пошло, мы все оттуда. Даже те, кто не прочел ни одной книжки и не видал ни одной репродукции, в Италию не приезжают, а возвращаются. Таковы Венеция, Верона, Генуя, Мантуя, Перуджа. Там с первого раза возникает твердое убеждение, что здесь уже приходилось бывать. Без труда обходишься без путеводителя, а если возникают вопросы, их задаешь и получаешь ответы, не зная языка, – потому что жесты, потому что мимика, потому что улыбка. Потому что прапамять.
Италия в этом (как и во многих других) отношении – первая. Но не единственная. В Испании – Кордова, Толедо, Саламанка. Во Франции – Руан и Шартр. В Португалии – Лиссабон. Выбор произволен, и каждый назовет свое, но мотив един – негромкий, грустный, временами надрывный, лирический, сентиментальный. Под него не пританцовываешь, и хочется не столько подпевать, сколько подвывать – истово, но незаметно. Так звучит фадо.
Фадо – чисто португальское явление, сложное порождение песенного наследия африканских рабов, пропущенного сквозь заимствования из опыта мореплаваний и колонизаций, помноженного на европейский городской романс. Фадо можно было бы сопоставить с неаполитанской нотой в итальянской музыкальной культуре либо с цыганщиной в музыке русской. Но вряд ли стоит сопоставлять – лучше поставить диск Амалии Родригеш, ослепительной красавицы, умершей совсем недавно. Ее голос хотелось бы слышать всегда, если б не надобность зарабатывать деньги: что-что, а работать под фадо не предполагается.
Лиссабон – фадо в градостроительстве. Вернее будет сказать, в градоустройстве, потому что вставал Лиссабон, как всякий натуральный город, хаотично. Здесь был в XVIII веке свой преобразователь – маркиз де Помбаль, взявшийся перекраивать Лиссабон, почти уничтоженный землетрясением 1755 года. Помбалю удалось многое, но не все: словно сами по себе выросли кварталы Альфамы, скатывающиеся с холмов к реке Тежо (в своем течении по Испании – Тахо), широкой, как море. Повинуясь не верховным планам, а внутренним потребностям людей и их жилищ, пролегли улицы Байро-Альто – Верхнего квартала. В этих двух районах лучше всего слушать фадо, цедя за столиком портвейн. Собственно, эти районы и есть городское фадо.
Душевному декадансу томительных песен отвечает полураспад здешних зданий. Они – если не построены вчера – прекрасны.
Прежде всего – azulejos. Произносится – “азулежуш”. Это изразцы, шедшие в северных широтах на облицовку печей-голландок, а в Испании и Португалии – на все подряд. В Лиссабоне и Порту полно церквей, сплошь обложенных рядами азулежуш. В Альфаме и Байро-Альто глаз не оторвать от жилых домов, сверху донизу облицованных цветной плиткой дивного рисунка. Вся эта не виданная в иных местах красота помещается в контекст разрухи. Самой разрухи нет – речь, в конце концов, о столице современной европейской страны. Но есть изношенность, обшарпанность, траченность временем – то, что надобно городу, когда город из разряда не роскошных, а прелестных.
Лиссабон обаятелен и уютен, как все те же диван или халат. Оттого сюда можно и нужно приезжать зимой. В узких улочках среди пастельных стен – тепло. Еще тут хорошо зимой, потому что в это время лучше всего пьется выдающееся португальское изобретение – портвейн.
Ничего не придумано лучше для кресла у камина, чем рюмка выдержанного портвейна. Кто спорит, хорош и старый коньяк или виски single malt, но сколько выпьешь коньяка или виски? Особенно если ты – дама. Портвейн все-таки вдвое слабее градусами, а тонкостью и богатством букета не уступит ни одному напитку на свете.
Портвейну исторически не повезло: кажущаяся легкость подделки породила множество видов питья из разряда bormo-tukha, в просторечном обиходе называемых тоже портвейном. Благородству портвейна настоящего это не повредило, но подпортило его общественное реноме. В Португалии проникаешься ощущением величия этого напитка.
Несомненно, в стране пребывания нужно пить местные зелья. Не только потому, что там они лучше, но и потому, что случайностей в естественном отборе не бывает: алкоголь столь же органичная часть культуры, как музыка. Кайпиринья нигде не имеет смысла, кроме жарко-влажной Бразилии. Саке идет под сырую, а не под соленую рыбу. Прекрасное немейское вино я пил только в Греции – точно такое же по этикетке было куда хуже в других местах. Грузинские вина, особенно полусухие вроде киндзмараули, хванчкары, тетры, приемлемы лишь в Грузии. Лучший джин на свете – в Голландии, их джиневер под местную селедку и угря. Даже если не любишь сладкие вина, рюмка марсалы хороша под десерт в Сицилии.
Познание портвейна начинать надо постепенно, прогуливаясь, приближаясь. От Россио – центральной площади Лиссабона – пройти к причудливому сооружению из стальных кружев, которое называется Elevador Santa Justa. Этот лифт столетнего возраста поднимает из Нижнего города в Верхний. Оттуда кварталами Киадо – к кафе “Бразилейра”, сделав привал в его элегантном уюте. Кофе – национальная страсть португальцев, вполне объяснимая, если вспомнить, что они открыли Бразилию и веками владели ею.
У входа в “Бразилейру” на бронзовой скамье сидит бронзовый поэт Фернандо Пессоа, обожавший это заведение. Однако он перешел из телесного состояния в металлическое, заработав цирроз и все то, что образуется в человеке от огульного потребления напитков крепче кофе. Пессоа пил при этом изрядную фруктовую (из вишни или инжира) пакость ярких расцветок, а отнюдь не портвейн. Выбор, надо думать, определялся не столько вкусом, сколько карманом. Хороший портвейн дорог, но стоит своих денег, как платье от Лакруа или сапоги от Гуччи. На всякий случай не скажу, сколько мне стоила бутылка урожая своего года рождения.
Из “Бразилейры” мимо церкви Сан-Рок и парка с захватывающим видом на весь город – прямой путь на улицу Сан-Педро-де-Алькантара, где размещается основанный около семидесяти лет назад Институт портвейна. Сюда надо прийти, чтобы оценить масштаб явления. Прийти, разумеется, в сумрачный красивый бар на первом этаже, а не в лабораторию, где, наверное, тоже интересно и что-то такое разрабатывается, но в винном деле прогрессивнее всего – консерватизм: поменьше резких движений. Плавно достать бутылку, обтереть, очень-очень плавно открыть, еще плавнее налить, так же плавно (не залпом!) выпить. Не забыв перед этим погрузиться в плавную мягкость кресла – такова лучшая оболочка для пьющего портвейн. Если напротив камин – то это и есть Институт портвейна.
Здесь вам приносят винную карту толщиной с собрание сочинений Пессоа. Более трехсот наименований с описаниями. Тут, наконец, стряхивается наваждение памяти, в которой родиной портвейна запечатлелся Агдам, а не Португалия. На закуску можно попросить сыр, опять-таки не плавленый сырок юности, а нечто изящное типа bleu: французский рокфор, итальянскую горгонзолу, лучше всего – английский стилтон. Англичанам – фора. Без них не было бы портвейна, который когда-то назывался в Португалии английским вином.
Упрощенная схема историко-политэкономического процесса такова: Англия поставляла в Португалию шерсть и изделия из нее, загружаясь на обратный путь местным вином. Оно было дешевле французского, к тому же политические осложнения дважды побуждали Лондон вводить запрет на импорт вина из Франции. Но в холодной Англии любили выпить что-нибудь покрепче, чем сухое вино: ром, джин, виски. Все в том же кресле у того же камина. Из этой потребности главные винные агенты англичан – португальцы – три с лишним века назад создали крепленый (18–22 градуса) портвейн.
Недолгое брожение виноградного сока искусственно прерывается добавлением коньячного спирта в пропорции четыре к одному. Вино стоит в бочках до весны, а потом переправляется в город Порту, где уже зреет в погребах. Надо понять: как не бывает коньяка не из района французского города Коньяк (остальное – бренди), так портвейн бывает исключительно из винограда долины реки Дуро на севере Португалии. И исключительно тот, который созрел в погребах Вила-Нова-де-Гайа – окраины города Порту. Такую демаркацию провел два с половиной века назад реформатор маркиз де Помбаль, и только наши дни глобализации и внедрения евро внесли коррективы, расширив зону портвейна до бессмысленных пределов. Новшества не сбивают с толку подлинных ценителей, помнящих о том, что само имя вина указывает на Порту и его окрестности.
Когда-то бочки в Вила-Нова-де-Гайа возили по реке на специальных судах – рабело. Теперь рабело, пестрые и нарядные, стоят на приколе, рекламируя портвейновые компании, а раз в год состязаются на потеху туристам. В прочее время года турист бродит от погреба к погребу, нанизывая имена фирм: португальские – Fonseca, Borges, Ramos Pinto, Ferreira, английские – Sandeman, Taylor, Osborne, Graham. Англичане остаются главными потребителями портвейна. В нынешнем мире все перемешалось, раньше-то было просто: первосортное вино отправлялось в Англию и другие европейские страны, второй сорт шел в свою колонию, Бразилию, и в Россию, где морозы случались чаще, чем в Англии, а знатоки попадались реже.
Туриста водят по длинным галереям, рассказывая истории о том, как Нельсон чертил лордам адмиралтейства план Трафальгарской битвы на столе, окуная палец в портвейн. Турист-новичок узнает, что основных видов портвейна – три. Белый – сухой и пьется в качестве аперитива. После еды в кресло к камину подаются ruby (рубиновый) и tawny (рыжевато-коричневый). А к ним в идеале – стилтон с бисквитами. Лиссабонские знакомые советовали сопровождать tawny паштетом: попробовав, рекомендую тоже. Говорят, неплохо идет под сигару – не пробовал, не курю. И разумеется, хороший портвейн хорош просто так.
В известном смысле портвейн – по-мужски крепкий и по-женски нежный – можно счесть идеальным, универсальным напитком. Это вообще приближение к идеалу, в который можно попробовать погрузиться, из которого трудно, да и не хочется выходить: у камина под звуки фадо с рюмкой портвейна. Зимой в Лиссабоне.
Тепло модерна
Зимой тело и душа тянутся к уюту, и умственный взор блуждает в поисках идеальной обстановки. Не то что с первыми заморозками бросаешься перестраивать жилье, но помечтать всегда доступно. Немногие могут позволить себе смену домашних декораций по вкусу и капризу, но каждый способен внести в свое неодушевленное окружение черты вожделенного облика. Вопрос – чего именно вожделеть?
Зимой становится особенно понятно, что самый уютный интерьер – это ар-нуво. Так стиль назвали во Франции, где он народился и процвел на стыке XIX и XX столетий. Быстро, фактически одновременно распространившись по множеству стран, обрел разные имена: в Италии – либерти, в Германии – югендштиль, в России – модерн.
Не вдаваясь в искусствоведческие сложности, можно сказать о главном в модерне: эти дома созданы не строительством, а ваянием, они произведения не столько архитектуры, сколько скульптуры. Что до интерьера, он не окружает, а заботливо обтекает человека. В такую обстановку не входишь, а погружаешься.
Отсутствие прямых линий и углов в 90 градусов пришлось по сердцу всему миру, да и не могло не прийтись: никогда еще не было стиля столь человекоподобного. Модерну оказалась суждена недолгая жизнь, в чем не его вина. Вина истории: революции и войны не располагают к плавным обводам. Возникший в короткий промежуток всеобщего процветания, наглядный, вызывающий, наглый, комфорт модерна вступил в противоречие с угловатостью и пунктирностью мира, начавшего отсчет нового столетия не с 1900-го, а с 1914-го, с Первой мировой.
Короткий расцвет был бурным, и модерн успел расставить свои вехи повсюду в таком количестве, что его лишь подсократила Вторая мировая. Париж, Нанси, Москва, Прага, Буэнос-Айрес, Будапешт: многие улицы этих городов по сей день – словно выставки модерна. На суровых широтах России теплый модерн пришелся как нельзя кстати, о чем знают жители Петербурга, Киева, моей родной Риги и других городов. Но первенство тут держит Москва, которой повезло с архитекторами. Изваянный Шехтелем особняк Рябушинского на Спиридоновке – мировой шедевр. Максим Горький знал, где поселиться, чтобы не слишком ощущался перепад после Сорренто (там, замечу в скобках, он тоже занимал лучшую по тем временам виллу с видом на море и Везувий). Хороший вкус был у пролетарского писателя.
При всем обилии этого стиля в мире есть все же город, который безусловно претендует на титул столицы модерна. Барселона.
Претензии трудно оспорить, потому что только применительно к Барселоне можно говорить не о вкраплениях, а о цельном модерновом облике. Может, в Праге фасадов ар-нуво и не меньше, но Барселона вся – плавна и обтекаема. Достаточно обратить внимание на такую особенность: на перекрестках проложенных в начале века улиц срезаны углы тротуаров, так что образуется не четырехугольная, а восьмиугольная площадь – то есть тяготеющая к кругу.
Круг и овал господствуют в барселонских интерьерах. Здесь уютно в магазинах, галереях, ресторанах, квартирах – если повезет в них попасть. Может, одержимость Барселоны домашним уютом объясняет то, что здесь (на улице Sancho d’AVIIa в районе Poble Nou) есть уникальный музей – катафалков. Музей посвящен последнему передвижному дому человека, в котором он комфортабельно доставляется туда, где интерьер несущественен.
Город в истории вел себя заносчиво, отстраняясь от Кастилии, которую Каталония никогда не любила; отталкиваясь от Мадрида, с которым Барселона всегда соперничала. Здесь насаждали свое, особое – оттого, наверное, так истово культивировали модерн, чтобы отличаться от остальной Испании. Барселона и отличается. Во многом – благодаря таланту и усердию Антонио Гауди, который возвел в городе всего дюжину зданий, но определил его общий облик.
При взгляде на дома Гауди кажется, что их построил либо ребенок, либо впавший в детство старик. Свобода от всяческих условностей – удел младенцев, безумцев и гениев. Прихотливая свобода – главная черта модерна.
Стоит совершить прогулку по примечательным барселонским домам, что делать лучше всего зимой – потому что зимой приятнее заходить внутрь, любуясь интерьерами, а по пути еще и совершать привалы в барах и кафе на рюмку агуардиенте или хереса.
Вершина барселонского модерна, а может, модерна вообще – Casa Mila на углу Passeig de Gracia и Carrer de Provenca. То, что здание на углу, важно отметить, потому что оно причудливо изогнуто, так что напоминает не то прибрежную скалу с ласточкиными гнездами, не то – точнее! – волну под скалой. Здесь модерн и его апостол Антонио Гауди добились почти невозможного: гигантский жилой дом кажется природным явлением, причем не застывшим, а текучим.
Будто из “Тысячи и одной ночи” явилась Casa Vicens, только построен дом для антисказочного кирпичного магната Мануэля Висенса. В обстановке – странная, но обаятельная смесь европейского Возрождения с мусульманским Ренессансом. Если бы испанцы не выгнали арабов, а жили с ними бок о бок в мире, так, наверное, выглядела бы вся Испания.
Взглядом не охватить дворец Гуэль – он стоит неудобно, тесно. Но можно взобраться на крышу, оказавшись среди целого леса диковинных каминных труб, поражающих цветистой фантазией. И можно войти внутрь. Софа, словно сама собой выросшая из половины кресла. Туалетный столик, хитро изломанный, как кокетка перед ним, принимающая у зеркала трудную позу в порыве самоутверждения. И вдруг – стройные колонны перед окнами: всего 127 колонн во дворце, сверкающих на солнце серым отполированным камнем. Тут особенно ясно, что имел в виду Гауди, когда говорил, что архитектура – это искусство распределения света.
Диковинные декорированные потолки (так же у Шехтеля в особняке Рябушинского-Горького). Архитекторы модерна украшали их, как живописные полотна, не боясь, что с обитателей и гостей свалится кепка. Может, дело в том, что они не носили кепок?
Кругом мозаики, витражи, особенно много излюбленных каталонскими модернистами цветных изразцов – своих, испанско-арабских “асулехос”, родных братьев португальских “азулежуш”.
Модерн вовсю испытывал сочетания красок. Оттого, видимо, так любил цветочный орнамент. Обожаемый цветок – ирис, сокровенно эротичный, позволяющий при полном соблюдении невинности доходить почти до порнографии (художниками были только мужчины, а если б наблюдалось равноправие, не миновать бы еще и грибного орнамента).
Наиболее “обычное” здание Гауди – Casa Calvet. Это снаружи. Внутри же – дубовая мебель, чей дизайн вдохновлен мыслями о бренности бытия. Спинки, сиденья, перекладины, подлокотники скамей и стульев легко, но тревожно напоминают части человеческого скелета – лопатки, ребра, берцовые кости, тазобедренные суставы. На глаз такое выглядит не столь свирепо, как в описании, а сидеть просто удобно – я пробовал. Со временем ко всему этому одомашненному мака-бру, наверное, легко привыкнуть – так вставная челюсть раздражает и унижает, пока о ней не забываешь.
В Casa Batllo — виртуозно созданное впечатление дома, огромного изнутри. Винтовая лестница уходит будто в небо, а не на второй этаж (так же воздушно-монументальна лестница все в том же особняке на Спиридоновке). В гостиной, само собой, – ни единой прямой, но и ни одной ровной поверхности. Крыша едет почти буквально – оттого кажется, что попал не то в собор, не то в концертный зал, хотя это всего лишь скромная гостиная.
Плавно изогнутые очертания комнат превращают их в ячейки, выросшие естественным образом, а вовсе не построенные. Стены здесь не замыкают комнаты, а служат их декоративным оформлением. Двери – не для запора, а для раскрытия прекрасной сути. Жить внутри произведения искусства кажется сложным, но вдумаемся: ведь живет в нем не кто-нибудь, а венец творения.
Испанская, каталонская Барселона раскрывает происхождение и смысл русского слова “помещение”. Уют и тепло жилья – это когда человек не находится, не располагается, а именно помещается в доме. В своем месте.
Глоток бургундского
Уже в ближайшем от Парижа городе Бургундии, Сансе, все становится понятно. В центре – крытый рынок, из которого не хочется уходить никогда, и вообще-то не надо, потому что вкуснее и праздничнее не бывает нигде. Но напротив, через площадь, – собор Сент-Этьен, смесь романской и готической архитектуры, с самой богатой во Франции сокровищницей. В этом храме венчался Людовик Святой, тут же – надгробие отца того Людовика, которому отрубили голову в революцию.
Такова вся Бургундия – наслоение культурных пластов: история, архитектура, кулинария, вино. Впрочем, два последних понятия неразрывны. Алкоголь – лишь часть еды: перно или кир перед, вино по ходу, коньяк или кальвадос после. Несмотря на пропагандные усилия цивилизации, такой подход все еще поражает и трогает новизной север и восток Европы. По-настоящему эту тайну – вино часть еды – знают только в Средиземноморье, лучше всего во Франции, особенно в Бургундии, где производится 150 миллионов бутылок в год, больше половины из которых разносятся на экспорт в 140 стран.
Гастрономический рай провинции подтверждается статистически. Из двадцати семи ресторанов, удостоенных во всем мире трех звезд по классификации фирмы Michelin, двадцать один – во Франции. Четыре из них – в Бургундии.
Интерьер трехзвездного “Золотого берега” (Cote d’Or) в Солье на диво скромен, да и снаружи это простое желтоватое здание у дороги. До прокладки скоростных магистралей здесь проходила оживленная трасса Париж – Лион. Скромен и сам крохотный городок Солье, один из гурманских центров планеты. Монументальностью выделяются лишь церковь XIII века и статуя быка. Так запечатлена в веках и бронзе порода ша-роле. Светло-бежевые коровы веселят глаз на зеленых лугах, вкус – в бургундских харчевнях. Из них лучше всего получается беф-бургиньон: рецепт прост, всего-то и нужны говядина шароле и приличное бургундское. Разумеется, положение (географическое) обязывает иметь это блюдо в меню Cote d’Or, но его владелец и шеф-повар Бернар Луазо более всего знаменит сочетанием традиционного мастерства и сногсшибательной изобретательности. Коль скоро повара во Франции любимы, как оперные теноры и футбольные звезды, то Луазо – Пласидо Доминго и Зинедин Зидан. Суп из карамелизированной цветной капусты, лягушачьи лапки в петрушечно-чесночном пюре, эскалоп из утиной печенки с медальонами из репы, грушевое суфле с горячим шоколадным соусом остаются в тех закромах памяти, где предусмотрены полочки счастья.
Оттого я воспринял как личное горе самоубийство Луазо три года назад. Он застрелился, услыхав, что его ресторану намерены оставить лишь две звезды. Слух оказался неверен, но Луазо об этом уже не узнал. За триста с лишним лет до этого Франсуа Ватель, повар и метрдотель принца Конде, устраивая обед для Людовика XIV, обнаружил, что не хватает рыбы, и бросился на шпагу. Рыбы хватило.
Все очень серьезно. Александр Дюма умер, работая над “Большим кулинарным словарем”, а заканчивали его Леконт де Лилль и Анатоль Франс. Повар пяти президентов Жоэль Норман пишет в мемуарах: “Содержимое тарелки президента укрепляет престиж Франции”. Сотрапезники за едой говорят о еде; столики в ресторанах и кафе обычно маленькие, чтобы быть поближе друг к другу, а тарелки большие, чтобы еда легла просторно и ее можно было разглядеть. Продавец подробно объясняет, как именно мариновать куриную грудку в бальзамическом уксусе, и в очереди нет раздражения, а если кто и волнуется, то потому, что хочет предложить свой вариант. Официант, разливающий суп, сосредоточен, как провизор.
Столетия даром не проходят. Изысканные мужчины и женщины Бургундии и вообще просвещенной Европы, явленные старой живописью и куртуазной литературой, в еде понимали мало. Количество было важнее качества, а отсюда следствие – вид важнее вкуса. Построить разноцветную пирамиду из дичи, запустить по винной реке карамельные каравеллы, соорудить рыбу из мяса, разместить в пироге жаворонков так, чтобы они задорно вылетели под главный тост, а не задохлись к чертям собачьим. Торжествовали все те же живопись и литература, как в нынешних московских ресторанах: застолье сильно выигрывало в описании (см. пир Ивана Грозного в “Князе Серебряном” А.К. Толстого). Весьма сомнительны гастрономические достоинства салата из соловьиных язычков, но воображение разыгрывается. Как-то на Сахалине браконьеры угостили лебедем, гордо проплывающим сквозь историко-литературные банкеты: съедобно, но и только, до банальной курицы далеко. В Cote d’Or курицу возносят до орлиных высот, особенно если это здешняя курица-брессе.
Однако Бургундия не была бы Бургундией, если б радовала только вершинами. Еще содрогается каждая жилочка от искусства Бернара Луазо, как на следующий день новое испытание – routier, придорожная забегаловка для шоферов-дальнобойщиков. Такое заведение безошибочно обнаруживается по обилию припаркованных фургонов и грузовиков. В routi-er — фиксированная плата при входе: сколько съешь. Вкуснейший обед в двадцать раз дешевле, чем в трехзвездном кабаке: изыска нет, но качество одного порядка. И уж совсем голова идет кругом у человека с иных меридианов, когда за те же деньги можно открыть кран и без конца наполнять кувшин добротным столовым вином. Небритые мужчины в больших ботинках и клетчатой фланели начинают виноградными улитками (в Бургундии – лучшее эскарго), завершают чередой сыров и не часто открывают кран. Зато кран и рот не закрываются у наблюдателя с иных меридианов – от изумления, а может, от внезапного прикосновения к способу жизни, которого всегда подспудно хотелось, но все сложилось по-другому.
Всякое путешествие – урок. Бургундское – урок яркий и поучительный. Бургундия – не набор явлений, будоражащих чувства и разум, а целиком такое явление. Не каскад аттракционов, а единый грандиозный аттракцион. Здесь с легкостью погружаешься в иную жизнь, робко догадываясь, что она не твоя, но и не чужая. Все мы, объединенные общей европейской культурой, – французы, американцы, русские, – более или менее отсюда.
Историческая судьба Бургундии сложилась причудливо. В ее прошлом – период XIV-xv веков, когда герцогство было самым процветающим государством к северу от Альп, его армия – сильнейшей, столица Дижон и тогдашние бургундские города – Брюгге, Гент, Брюссель, Льеж – блеском искусств уступали разве что итальянским, а Иеронимус Босх и Ханс Мемлинг, теперь проходящие в музеях по фламандскому и немецкому разделам, жили во владениях бургундских герцогов. После этого военно-государственно-художественного взлета наступил долгий период упадка и подчинения – сначала Габсбургам, потом Франции. В политическом отношении Бургундия – одно лишь прошлое, а упоминание о борьбе бургиньонов и арманьяков сейчас звучит как строчки из меню. Бургундия в известной мере законсервировалась, сохранив облик той давней Европы, который во многих других местах так искажен разрушениями и перестройками. Здесь нельзя проехать получаса, чтобы не встретить либо обаятельный городок с открыточной соборной площадью, либо замок из книжки Шарля Перро. Возврат в детство – общечеловеческое и свое собственное – ощущается неизбежно и волнующе.
Как нигде, тут уцелела уютная романская архитектура. Соборы перестраивали в новомодных стилях там, где бурлила история. Бургундия стояла на обочине, не накапливая заимствованное, а оберегая свое. Что делать: едва ли не вся рукотворная красота на земле сохранилась по ненужности, забывчивости или недоразумению.
Чистейший романский стиль – аббатство Фонтене, расцвет которого минул семьсот лет назад. Здесь жили монахи-цистерианцы, чья заслуга – виноделие Бургундии и начало коммерческого производства здешнего вина. Холодно и промозгло в их братской трапезной, в их монастырской церкви, в их общих спальных залах, где дозволялся лишь тощий тюфяк на камнях. Поразительно это сопряжение: вино как живейший символ жизни и вызывающий отказ от простейших жизненных радостей. Впрочем, в монастыри уходили не столько за благочестием, сколько за укрытием от насилия и бедности. Религиозный экстаз, как всякая роскошь – в том числе духовная, интеллектуальная, – был уделом лидеров.
Экстаз заводил на высоты как благости, так и неистовства. Из Везеле – прелестного городка, славного своим аббатством, – начинались пути и смиренных паломников Дороги Сантьяго, и свирепых воителей Крестовых походов. Романские колонны храма Марии Магдалины хранят скульптурные группы, вызывающие оторопь детской наивностью и бесчеловечной жестокостью. “Бесчеловечной” – буквально: в жути казней, смаковании мучений угадывается точка зрения не человека, а самой истории, пусть и Священной.
Совсем иные – скульптуры собора Сен-Лазар в Отене. В “Искушении Христа” дьявол вовсе не страшный, а смешной, такому и захочешь – не поддашься. Три волхва спят, укрывшись, как беспризорники, одним одеялом, выложив бороды поверх, и еще не знают, что строго над ними – Звезда. “Лежащая Ева” в неуклюжей и оттого трогательной позе, с простодушно-хитрым выражением лица – словно промежуточное звено между библейским прототипом и той женщиной, которую знает каждый.
Хочется думать, что монахи отенского, а не везелейского толка основали самое впечатляющее учреждение Бургундии – больницу в Боне. Город считается столицей бургундского вина, но вино здесь повсюду, а в Бон стоит приехать ради этого здания – одного из красивейших в провинции, да и во всей Европе. Снаружи почти неприметная за высокими стенами, больница раскрывается во внутреннем прямоугольном дворе, на который выходят фасады с крутыми шатровыми крышами из пестрой красно-желто-зелено-черной плитки. В длинном зале – ряды кроватей за темно-красными пологами, с деревянными сундуками и медными грелками, и нет сил осознать, что так построено и устроено полтысячи лет назад. Больница – для бедных, бесплатная, благотворительная, лишь тридцать лет назад ее превратили в музей, до тех пор в ней лечили.
В основе благотворительности как социального феномена – покаяние. Каяться надо не просто молитвенно, но и действенно: на этом по сей день стоит гигантская многомиллиардная институция всевозможных фондов, грантов, пожертвований, без чего не было бы доброй половины больниц, учебных заведений, музеев, театров, фестивалей. Направления филантропии провозглашены как раз в средневековом христианстве, их семь: накормить голодного, напоить жаждущего, одеть голого, приютить бездомного, ободрить заключенного, навестить больного, похоронить мертвого. О развлечениях и праздниках там ни слова, но с ростом благосостояния роскошь начинает ощущаться как необходимость. Впрочем, в бонской больнице для бедных уже в xv веке заботились не только о лечении, но и об отделке одеял. Здесь хочется, как в школьном детстве, набить температуру на градуснике и улечься симулянтом в невиданной красоте.
Желание остаться, по крайней мере задержаться подольше, в Бургундии возникает подозрительно часто. Это, что ли, и называется – возврат к истокам? В столичном Дижоне, торговом Осере, микроскопическом Нойере, бродя по брусчатке кривых узких улиц, глядишь на автомобили и сателлитные антенны и вдруг понимаешь, что они – лишь цивилизационный нарост, не меняющий сути. Обиход неизменен – как глоток бургундского, как свой булочник и свой зеленщик, как петух в вине (Coq au Vin — не курица, а именно петух, не путать), как осенняя поездка за шабли в соседний городок Шабли, как стаканчик кира перед едой (четверть дижонского черносмородинового ликера Creme de Cassis на три четверти холодного белого вина, по классике – местного алиготе), как благовест своего прихода, как утренний багет и чашка кофе. Нетронутость главного – вот о чем Бургундия.
Песни левантийской Ривьеры
В Риомаджоре уже к концу второго дня пребывания начинаешь ощущать себя старожилом. В газетном киоске, не спрашивая, протягивают миланскую “Корьере делла сера”, хозяин зеленной лавки говорит: “Сегодня белые грибы еще лучше, чем вчера”, бармен тянется за бутылкой артишоковой настойки “Чинар”, едва ты появляешься в дверях кафе.
Почувствовать себя не туристом, а жителем хоть на время – это возможно только в маленьких итальянских городках и деревушках, которые конечно же давно существуют не столько рыбной ловлей, сколько туризмом, но сохраняют при этом свой патриархальный уклад. В отличие от больших курортных мест, здесь живут для себя, и пришелец с этим должен считаться – с этим стоит считаться, потому что за таким переживанием сюда и едешь. Хрестоматийная курортная жизнь по соседству, но в стороне.
Итальянская Ривьера, равная французскому Лазурному Берегу по природной красоте и превосходящая его в скромном очаровании, уступает в респектабельности и отшлифованности – даже самое фешенебельное из здешних курортных мест, Сан-Ремо с его пышным цветочным рынком, со знаменитым песенным фестивалем. И по убывающей дальше на восток – Алассио, Ноли, Савона, вплоть до Генуи.
Генуя – вопрос отдельный, это не курорт, хотя пляжи имеются. Столица Лигурии – один из главных в европейской истории городов с грандиозным прошлым и невыдающимся настоящим. Непомерная, на грани безумия, роскошь генуэзских церковных интерьеров – почти истерическое напоминание о расцвете, вроде не по возрасту яркого наряда старухи. Великий порт, родивший Колумба и диктовавший цены всему западному миру, сейчас гордится разве что самым большим в Европе аквариумом. Интереснее всего в городе каруджи – узкие кривые улочки, причудливо переплетенные на широком склоне от центра вниз – к рынку, к набережной, к морю. Такое встречается еще только в Лиссабоне и Неаполе.
Но мы движемся дальше за Геную, на восток, по берегу Лигурийского моря. Там тесно друг к другу разместились: в горах над водой Рапалло, у воды – Санта-Маргерита-Лигуре, откуда одна из самых живописных дорог Италии ведет к Портофино. Здесь пик пришелся на 30-е годы, когда было модно приезжать сюда из Европы и Америки с мольбертами и виды Портофино тиражировались по миру. В конце 50-х отмечена вспышка активности, вдохновленная Элизабет Тейлор. Сейчас Портофино с пастельного цвета домами, изысканно облезлой штукатуркой, пологими зелеными холмами, виллами в кипарисах полон обаяния и той чисто итальянской прелести, которая порождается подлинностью и неприглаженностью. Свежих масляных красок сюда не завозят.
Мы уже в той части Итальянской Ривьеры, которая именуется левантийской – от Генуи до Специи. Она дичее и первозданнее. Тут нет многоэтажных отелей, собьешься с ног в поисках казино и не развернешься на маленьких каменистых пляжах. Берег здесь крут и сложен из дивной красоты слоистого камня – железнодорожный туннель в нем пробили, но и все. Километрах в шестидесяти за Портофино начинаются места, куда пробраться можно только поездом или – как пробирались веками – морем. Это – Чинкве-Терре.