
Полная версия:
60-е. Мир советского человека


Петр Вайль, Александр Генис
60-е. Мир советского человека
© П. Вайль (наследники), 1988, 2013
© А. Генис, 1988, 2013
© В. Бахчанян (наследники), иллюстрации, 2013
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018
© ООО “Издательство АСТ”, 2018
Издательство CORPUS ®
Александр Генис. Долгое поколение
Эта книга началась с того, что мы остались без работы. Еженедельник «Семь дней» закрылся на 57-м номере по коммерческим соображениям, к которым редакция не имела отношения. Журнал делали втроем: мы с Вайлем и Бахчанян, и на всех приходилась одна жидкая зарплата. Мы получали ее от издателя в пластмассовом пакете из супермаркета «Вальдбаумс», набитом грязными долларовыми бумажками из газетных киосков. Чистые, думали мы, вспоминая Паниковского, издатель оставлял себе. Деньги делил лучше всех считавший Вайль. На каждого приходилось по 150 долларов, но куча выходила изрядная, бумажки не влезали в карман, и на нас косились всюду, где доводилось расплачиваться. Зато мы знали, что живем на деньги читателей в гораздо более прямом смысле, чем это водится. Через год, однако, грязные доллары кончились, чистыми с нами делиться никто не собирался, и мы оказались безработными – и беззаботными.
Страховое пособие, немногим уступающее зарплате, обещало шесть месяцев безделья. Сладким оно, как мы к тому времени уже твердо усвоили, бывает, если есть дело. Когда не от чего отлынивать, свобода обременительна, день бесконечен, и водка не лезет. Хорошо еще, что рецепт спасения нам был известен – книга. Вопрос: какая?
Ответ нашелся там, где и следовало ожидать: в библиотеке, откуда я с трудом притащил домой нарядный том Джона Пристли «Викторианская Англия». Осенило меня еще до того, как я успел досмотреть картинки: в советской истории была своя викторианская эпоха – та, в которой режим показал все, на что он способен.
«Викторианство» не совпадает с высшим творческим расцветом. В Англии он пришелся на правление другой королевы – Елизаветы Первой, в СССР – на 20-е годы. Главное тут не столько художественные, военные или политические достижения, сколько сентиментальные – внутреннее мироощущение самодовольной эпохи. Нам ведь очень редко нравится время, в которое мы живем, но иногда мы идем в ногу с календарем и верим в светлое будущее. Такой была либеральная и самоуверенная Англия Виктории. Таким был – точнее, казался многим – Советский Союз 1960-х. Это десятилетие отличалось от семи остальных относительно (Синявскому или Бродскому от этого было не легче) вегетарианскими повадками власти, что позволило впервые и ненадолго реализовать потенции советского общества. Следствием короткого перемирия стало явление самого длинного в русской истории поколения «шестидесятников», которых мы знали лучше других, ибо жили среди них в эмиграции.
Обрадовавшись идее, я тут же позвонил Вайлю, горячо одобрившему проект. Я даже знаю, когда это произошло: 18 ноября 1984 года. У меня лежит сохраненный на память о нашем решении листок отрывного календаря. Поскольку его автор, эсер Николай Мартьянов, с революции не менял занимательных фактов, развлекавших покупателей, то на обратной стороне листочка можно было прочесть о «волшебной радиоле, позволяющей слушать музыку без оркестра».
«История, – решили мы, – стучится в дверь, и нам остается ее только распахнуть».
Найдя себе дело и тезис, мы принялись искать форму, в которую бы уложилась наша смутная затея. Вот когда выяснилось, что мы не знаем, как пишется история. Более того, этого не знал никто: 60-е кончились совсем недавно и еще не ощущались, да и не были прошлым. Тогда я еще не читал Литтона Стрейчи, который заявил, что историю викторианства написать нельзя, ибо мы знаем о нем слишком много. Мы были в схожем положении и пытались нащупать выход в двух направлениях. Первый вел к книгам, второй – к людям.
Теперь, вооруженные целью, мы каждое утро отправлялись в славянское отделение библиотеки на 42-й стрит и сидели там до вечера, обложившись советской прессой 60-х годов. Конечно, мы ей не верили, но нас интересовало, как она врала и о чем умалчивала. Ведь цензура, рассуждали мы, не только вычеркивает, но и творит, создавая искаженный слепок с действительности. Для опытного глаза (а каким еще он может быть у выросших в Советском Союзе?) ложь партийной прессы обладала сотнями степеней и оттенков. Она не могла не проболтаться о главном, и мы сторожили существенное. Не для того, чтобы уличить, а ради того, чтобы нащупать болевые узлы эпохи. Каждый из них связывал идеологическую тему с конкретным сюжетом в один миф и волей-неволей делал всех современниками. Раз миф тотален, считали мы, он задевает всех, даже тогда, когда его демонстративно игнорируют. День за днем мы уминали сырую и фальшивую реальность, словно рыхлый снег в твердый снежок, которым можно разбить матовое стекло, заслонявшее прошлое.
Так скучная библиотечная работа стала захватывающей охотой, которой мы заразили друг друга и соратника Бахчаняна. Теперь мы ездили на 42-ю втроем и радостно делились находками. Вагрич, впрочем, предпочитал предыдущую – сталинскую – эпоху, где он сторожил образцы грозного державного сюрреализма и абсурдного концептуального безумия. Во всяком случае, он не без зависти разглядывал нечеловечески роскошное издание «Стихов о Сталине» Джамбула.
У меня, кстати сказать, был знакомый спортивный журналист, который лежал с «Джамбулом» в кремлевской больнице. «Казахский акын, – рассказывал приятель, – был старым московским евреем, которого распирала правда, но, возможно, он страдал манией величия».
Бахчанян охотно участвовал в нашей работе еще и потому, что она напоминала его собственный метод. Вагрич резвился в тылу врага, используя, как в каратэ, силу противника. Его коллажи лучше всего комментировали эпоху, когда он давал ей самой высказаться, а нам удивиться, ужаснуться и рассмеяться. Мы усвоили его технику безопасности в обращении с мифами, учась не разоблачать, а вскрывать их, как банки с консервированным временем.
Постепенно семантическое облако 60-х сгущалось в оглавление, но мы не торопились его оформить на бумаге, ибо хотели проверить себя на практике. Вокруг нас жили герои той эпохи, и почти каждый дал нам по огромному – многочасовому – интервью. В этих разговорах мы обкатывали центральные темы нашей книги и того времени с теми, кто их таковыми считал – или не считал. Аксенов соглашался, Комар и Меламид нет, Бродский говорил странное. Он, например, ругал космонавтику, не находя в ракете антропоморфного облика раннего самолета, который он, расставив руки, очень похоже изображал.
К несчастью, теперь уже невосстановимые записи всех без исключения бесед пропали. Из экономии мы покупали кассеты по четыре штуки на доллар, не догадываясь, что дешевые пленки быстро осыпаются вместе с записанным голосом.
Так или иначе, нам удалось сверить устную историю с письменной и внести поправки в уже установившуюся концепцию 60-х. Она напоминала американские горки: вверх-вниз, от надежд к разочарованию, с 1961 по 1968-й. Прочертив маршрут и распределив остановки, мы готовы были приступить к делу, но тут кончилось пособие по безработице.
В ответ на выпад судьбы и правительства мы изобрели парный коммунизм. Устройство его оказалось непростым, но действенным. Разделив 24 главы будущей книги по жребию (и я никогда не скажу, кому какая досталась), мы отвели на каждую по месяцу. Пока один, погрузившись по уши в материалы, писал свой урок, второй зарабатывал деньги – на «Радио Свобода», в калифорнийской газете «Панорама» и всюду, где хоть что-то платили. Гонорар складывался и делился пополам. Сейчас даже мне кажется странным, что эта наивная система работала без срыва целых два года. Честно говоря, я этим до сих пор горжусь.
Готовую рукопись мы отнесли в лучшее русское издательство из всех тогда существующих – «Ардис». Его хозяйка Эллендея (Карл уже умер) Проффер приняла книгу без вопросов и отдала оформлять Владимиру Паперному, чьей «Культурой Два» мы восхищались и которой завидовали. В 1988-м книга «60-е. Мир советского человека» вышла в свет – через четыре года после того, как была задумана.
За этот срок разительно изменился объект нашего исследования: из агрессивного застоя страна перешла к радикальным реформам. Мы писали о прошлом с легкой ностальгией, оно оказалось актуальным – перестройка решала те же проблемы, которые ставили 60-е. Хуже, что они остались нерешенными и сейчас, когда четверть века спустя выходит новое издание книги, по-прежнему отказывающейся быть исторической.
Говорят, что когда история не развивается, она длится.
Александр ГенисНью-Йорк, июнь 2013 годаОт авторов

Когда в 1984-м мы начали работать над этой книгой, 60-е годы казались замкнутым, завершенным историческим этапом. Советская жизнь тогда застыла в неподвижности, по сравнению с которой бурная реальность оттепельных лет предстала соблазнительной для исследователя.
Перестройка смешала все карты, но она же по-новому высветила предмет наших занятий. Горбачевские реформы оказались тесно связанными с проблематикой 60-х. Более того, в 60-х мы до сих пор находим источники почти всех перестроечных новаций.
Прежде чем представить книгу на суд читателя, нам хотелось бы указать на несколько обстоятельств.
Эта книга посвящена не истории первой «оттепели», которую принято датировать 1956–1964 годами, а эпохе 60-х, которые, как мы полагаем, начались в 1961 году XXII съездом, принявшим программу построения коммунизма, а закончились в 68-м оккупацией Чехословакии, воспринятой в СССР как окончательный крах всех надежд. Такие хронологические рамки позволяют выделить особый период в советской истории, период эклектичный, противоречивый, парадоксальный, но объединенный многими общими тенденциями. В эти годы советская цивилизация развилась в наиболее характерную для себя модель, сформировался особый тип «шестидесятника», личность которого так часто вспоминают сегодня. В эти же переломные годы произошли и коренные изменения в идеологии советского общества.
Главной нашей задачей была попытка воспроизвести атмосферу 60-х, описать не столько события, сколько нравы, образ жизни, общественные идеи, стиль эпохи.
Работая над книгой, мы широко использовали свидетельства массовой культуры того времени – прессу, книги, фильмы, телепередачи, песни, анекдоты. Относясь, с одной стороны, критически к таким источникам, как советские журналы и газеты того времени, с другой стороны, мы стремились учесть, что официальные источники информации не только искажают реальность, но и моделируют ее. Пытаясь сохранить точку зрения внешнего наблюдателя, мы, однако, отдаем себе отчет в том, что, будучи поздними «детьми оттепели», часто относимся к 60-м некритично. Что ж, наши заблуждения – тоже характерная примета времени.
Еще один важный вопрос: кто герой нашей книги? О ком, собственно говоря, мы пишем?
Мы ориентировались на достаточно широкий круг людей, в среде которых рождались, жили и умирали идеологические течения или хотя бы идеологические моды. Наверное, этот круг средней интеллигенции, активно заинтересованной в проблемах общественной жизни, условно можно определить как подписчиков «толстых» журналов.
В те дни, когда мы пишем эти строчки, в Советском Союзе происходит испытание главного тезиса нашей книги, тезиса о примате слова над делом. Сумеет ли реальность наконец трансформировать утопический характер страны? Только если это произойдет, 60-е по-настоящему станут предметом истории, потеряв живую связь с современностью.
Авторы приносят искреннюю благодарность всем тем, кто, поделившись своими воспоминаниями и размышлениями о 60-х, предоставил в наше распоряжение важнейший источник книги – устные свидетельства современников. Особую помощь, дав авторам обстоятельные интервью, оказали: М. Азбель, В. Аксенов, И. Бродский, В. Войнович, С. Волков, А. Гладилин, С. Довлатов, В. Комар и А. Меламид, Л. Копелев и Р. Орлова, К. Кузьминский, Л. Лосев, Ю. Любимов, Ф. Незнанский, Э. Неизвестный, В. Паперный, А. Синявский, Б. Спасский, И. Суслов, Б. Фрумин, О. Целков, М. Шемякин, Б. Шрагин.
Приносим также благодарность Б. Парамонову, который, взяв на себя труд прочесть рукопись книги, сделал ряд существенных замечаний.
Естественно, все упомянутые лица не разделяют ответственность с авторами ни за концепцию книги, ни за высказанные в ней суждения, ни за содержащиеся в ней ошибки.
Петр Вайль, Александр ГенисНью-Йорк, октябрь 1988 подаФундамент утопии
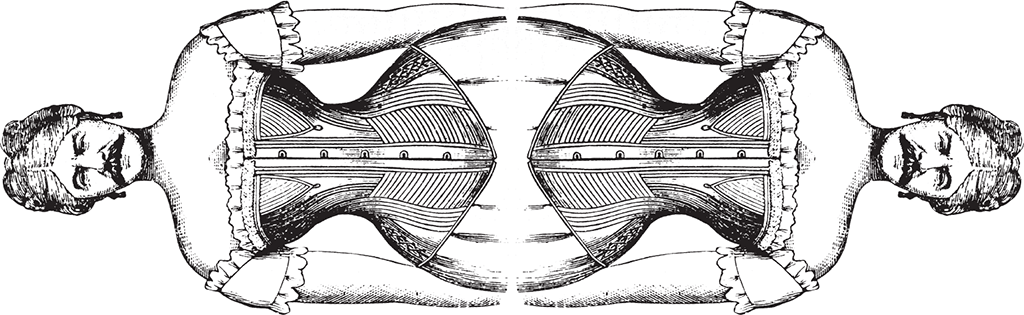
20 г. до н. э
Коммунизм
Эра коммунизма началась в Советском Союзе 30 июля 1961 года. Можно сказать, что этот день следует считать датой построения коммунистического общества в одной отдельно взятой стране – СССР.
Хотя проект новой, третьей, Программы КПСС был принят Пленумом ЦК в июне, в газеты текст попал 30 июля.
Это было воскресенье. В «Современнике», который в ту пору именовался еще «театром-студией», шло «Третье желание», в Зеркальном театре сада «Эрмитаж» – легкомысленная «Девушка с веснушками». На вечер телевидение запланировало всенародный праздник – матч московских команд «Спартак» и «Динамо». Хотя их монополию уже нарушили торпедовцы, а в нынешнем сезоне к чемпионству резво шли киевляне, старая гвардия бурно волновала умы. Гагарин, распрощавшись с Фиделем, летел в Бразилию и по пути в этот день был с восторгом принят населением голландской колонии Кюрасао. Госполитиздат закончил выпуск 22-го тома Полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина со статьями о ликвидаторах, отзовистах и примиренцах. Никита Сергеевич Хрущев инспектировал сельское хозяйство. «В шесть часов утра, когда солнце только поднималось над степью, Н. С. Хрущев уже подъезжал к селу Екатериновка», где высокого гостя ждал председатель колхоза по фамилии Могильченко[1].
Любое из этих событий привлекало внимание читателей газет в такой большой стране, как Советский Союз, и все события поблекли перед главным – текстом проекта Программы КПСС. Потому что в жизнь каждого советского человека вторглась поэзия, призванная изменить жизнь такой большой страны, как Советский Союз.
Новая Программа КПСС обещала построить коммунизм, и эта задача, собственно говоря, уже была выполнена самим произнесением сакральных слов: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Строительство утопии – и есть воплощение утопии, так как все, что для этого нужно, – наличие цели и вера.
Такое прочтение проекта Программы КПСС возможно только при подходе к тексту как к художественному произведению. В этом великая разница между проповедью и инструкцией. Инструкцию должно выполнять, проповеди достаточно внимать.
Проповедь о добре, благополучии и красоте жизни, которую несла новая Программа, наводила на сравнения с утопиями прошлого. Характерно, что обсуждения Программы в советской периодике практически не обходились без этого слова – «утопия», – хотя оно прежде носило явно негативный оттенок. Теперь слово и само понятие были реабилитированы: то, что раньше обозначало «несбыточную мечту», оставило за собой только значение «изображения идеального общественного строя». Вовсю мелькали имена Томаса Мора и Кампанеллы. В особой чести был итальянец: ведь это он впервые в истории трактовал труд как дело чести и насущную потребность человека. Он же предлагал применять к лентяям не только убеждение, но и принуждение («Кто не работает – тот не ест»). А герб Советского Союза был уже описан в «Утопии» Мора: серп, молот, колосья.
Новая редакция утопии – Программа КПСС – была универсальной, учитывая в самом буквальном смысле мысли и чаяния всех членов советского общества. Потребность в таком универсальном инструменте назрела.
Всегда перед страной стояли конкретные и внятные задачи: победить внешних врагов, победить внутренних врагов, создать индустрию, ликвидировать безграмотность, провести коллективизацию. Все это сводилось к общей идее построения социализма, вскоре после чего началась великая война – мощный импульс созидания через разрушение. Советский народ всегда что-то строил, попутно что-то разрушая: буржуазное искусство, попутчиков, кулачество как класс. XX съезд отнял у людей идеалы – маячил призрак великой смуты: священное имя Сталина, «вождя и вдохновителя всех наших побед», было дискредитировано. Страна пребывала в неясном томлении – без опоры, без веры, без цели. Со страной поступили нечестно, сказав как не надо, а как надо – не сказав.
В самом прямом смысле в конкретные цифры Программы никто не поверил. Но этого и не требовалось – по законам функционирования художественного текста. Но зато каждый нашел в Программе желаемое для себя. О чем же говорила Программа?
Целью она провозглашала строительство коммунизма – то есть общества, смыслом которого является творческое преобразование мира. Многозначность этой цели только увеличивала ее привлекательность. Творческое преобразование мира – это было все: научный поиск, вдохновение художника, тихие радости мыслителя, рекордная горячка спортсмена, рискованный эксперимент исследователя.
При этом духовные силы человека направлены вовне – на окружающий мир, неотъемлемой частью которого он является. И в качестве таковой человек не может быть счастлив, когда несчастливы другие.
Знакомые по романам утопистов и политинформациям идеи обретали реальность, когда любой желающий принимался за трактовку путей к светлой цели.
Художники-модернисты усмотрели в параграфах Программы разрешение свободы творчества. Академисты и консерваторы – отвержение антигуманистических тенденций в искусстве. Молодые прозаики взяли на вооружение пристальное внимание к духовному миру человека. Столпы соцреализма – укрепление незыблемых догм. Перед любителями рок-н-ролла открывались государственные границы. Перед приверженцами «Камаринской» – бездны патриотизма. Руководители нового типа находили в Программе простор для инициативы. Сталинские директора – призывы к усилению дисциплины. Аграрии-западники разглядели зарю прогрессивного землепользования. Колхозные мракобесы – дальнейшее обобществление земли. Прогрессивное офицерство опиралось на модернизацию военной техники. Жуковские бонапартисты – на упомянутых в Программе сержантов.
И все хотели перегнать Америку по мясу, молоку и прогрессу на душу населения: «Держись, корова из штата Айова!»
Программа с мастерством опытного проповедника коснулась заветных струн в душе. Против предложенных ею задач нельзя было ничего иметь в принципе. Три цели, намеченные Программой, не могли не устраивать: построение материально-технической базы, создание новых производственных отношений, воспитание нового человека.
Первая задача обеспечивала благополучие без стяжательства. Облик погрязшего в плюшевых абажурах обывателя не нравился никому. Отрицание частной собственности превратилось из лозунга в категорический императив, и всем было ясно, что в правильном обществе правильные люди должны располагаться под светом торшеров изящного – даже не рисунка, а неведомого пока дизайна.
Новые производственные отношения предусматривали принцип соучастия. И Программа, в которой труд не разделялся с досугом, давала однозначный ответ. Только при таком характере труда возможно построение этой самой материально-технической базы.
Общий труд, сама идея общего дела была немыслима без искренности отношений человека с человеком. Это было ключевым словом эпохи – искренность. Моральный кодекс строителя коммунизма – советский аналог десяти заповедей и Нагорной проповеди – был призван выполнить третью главную задачу – воспитание нового человека. В этих библейских параллелях тексту Программы стилистически ближе суровость ветхозаветных заповедей. В 12 тезисах Морального кодекса дважды фигурирует слово «нетерпимость» и дважды – «непримиримость». Будто казалось мало просто призыва к честности (пункт 7), добросовестному труду (2), коллективизму (5); ко всему этому требовалась еще борьба с проявлениями противоположных тенденций (пункт 9)[2]. Искренность обязана была быть агрессивной, отрицая принцип невмешательства, – что логично при общем характере труда и всей жизни в целом.
В том, что Программа обещала построить коммунизм через 20 лет, было знамение эпохи – пусть утопия, пусть волюнтаризм, пусть беспочвенная фантазия. Ведь все стало иным – и шкала времени тоже.
В этой новой системе счисления время сгущалось физически ощутимо. На дворе стоял не 1961 год, а 20-й до н. э. Всего 20-й – так что каждый вполне отчетливо мог представить себе эту н. э. и уже сейчас поинтересоваться: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»
Изменение масштабов и пропорций было подготовлено заранее. С 1 января вступила в действие денежная реформа, в 10 раз укрупнившая рубль. 12 апреля выше всех людей в мировой истории взлетел Юрий Гагарин, за полтора часа обогнувший земной шар, что тоже оказывалось рекордом скорости. В сознании утверждалось ощущение новых пространственно-временных отношений.
Действительность в соответствии с эстетикой соцреализма уверенно опережала вымысел. Иван Ефремов, опубликовавший за четыре года до Программы свою «Туманность Андромеды», объяснялся: «Сначала мне казалось, что гигантские преобразования планеты в жизни, описанные в романе, не могут быть осуществлены ранее, чем через три тысячи лет… При доработке романа я сократил намеченный срок на тысячелетие»[3]. Тут существен порядок цифр. Про тысячелетия знали и без Ефремова – то, что когда-то человечество придет к Городу Солнца, алюминиевым дворцам. Эре Великого Кольца. Потрясающе дерзким в партийной утопии был срок – 20 лет.
Во «Введении» новой Программы сказано, о каких пространственных границах идет речь: «Партия рассматривает коммунистическое строительство как великую интернациональную задачу, отвечающую интересам всего человечества»[4]. Именно так – всего человечества.
Что касается временных пределов, они были четко указаны в последней фразе Программы: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»[5]
«Нынешнее поколение» – это было ясно каждому. Это когда подрастут внуки. Когда женится сын. Когда станешь взрослым.
Публицист Шатров нарисовал картинку обсуждения проекта Программы:
Весть о высшем счастье человека стучится во все двери. Желанной и дорогой гостьей она входит в каждый дом.
– Читали?
– Слышали?
– Мы будем жить при коммунизме![6]
Сценка довольно точно передает ощущение мозгового сдвига, возникающего при чтении Программы. Надо отдавать себе отчет в том, что никто и не заблуждался насчет построения коммунизма в 20 лет. Любой мог выглянуть в окно и убедиться в том, что пока все на месте: разбитая мостовая, очередь за картошкой, алкаши у пивной. И даже ортодокс понимал, что пейзаж не изменится радикально за два десятилетия.
Но Программа и не была рассчитана на выглядывание из окна и вообще на соотнесение теории с практикой. В ней отсутствует научная система изложения, предполагающая вслед за построением теории стадию эксперимента. Текст Программы наукообразен – и только. При этом философские, политические, социологические термины и тезисы с поэтической прихотливостью переплетаются, образуя художественное единство. Сюжет Программы построен как в криминальном романе, когда читатель к концу книги и сам уже понимает, кто есть кто, но все же вздрагивает на последнем абзаце, в сладостном восторге убеждаясь в правильности своей догадки:
– Читали?
– Слышали?
– Мы будем жить при коммунизме!
Положения Программы не доказывались, а показывались, апеллируя скорее к эмоциям, чем к разуму. Когда-то Каутский грустил о временах, «когда каждый социалист был поэтом и каждый поэт – социалистом»[7]. Эти времена диалектически возрождались на глазах поколения 60-х. Программа партии была безнадежно неубедительна логически, но доказывала верность обозначенной цели и выбранного пути самим своим появлением.
Сам факт существования Программы – при всех очевидных содержащихся в ней нелепостях – опровергал эти нелепости. Цифры Программы не соответствовали здравому смыслу, но вполне укладывались в законы волевого счисления.
Характерно, что самые впечатляющие положения Программы были отнюдь не самыми важными. Все говорили о том, что будет бесплатный транспорт, бесплатные коммунальные услуги, бесплатные заводские столовые. Дело, видимо, именно в прочтении Программы как художественного текста, в котором конкретные и внятные детали берут на себя функцию пересказа. Трудно пересказать своими словами лирическое стихотворение или дальнейшее развитие принципов социалистической демократии. Но вот с приключенческим рассказом или бесплатным проездом в автобусе это сделать куда проще.



