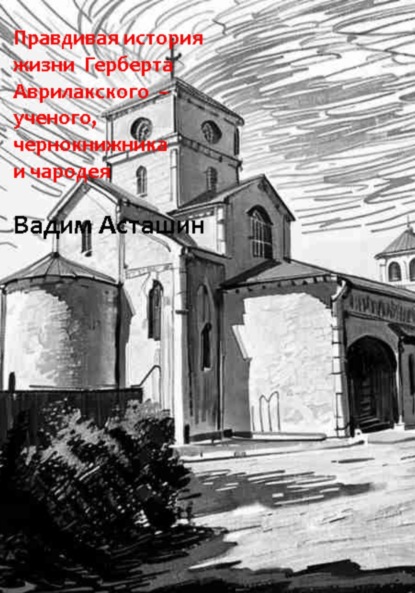
Полная версия:
Правдивая история жизни Герберта Аврилакского – ученого, чернокнижника и чародея
Но это была одна из тех редких побед, которые не могли привести к окончательному утверждению Каролингов в этих землях. Карл, Людовик IV и Лотарь еще не раз предпримут военные походы в Лотарингию и даже вглубь Германии, чтобы попытаться вернуть под свою власть земли их предков. Последних Каролингов все еще искушала давно канувшая в Лету империя Карла Великого. Но уже были иные времена и иные люди. Глубоко изменившаяся система не способствовали планам Карла Простоватого и его наследников. При Лотаре (954 – 986) эта политика стала гибельной для династии и в определенной мере подготовила роковые события 987 года. В свое время мы узнаем, как это произошло.
Церковь, монастыри и нравы духовенства в эпоху Герберта
К X веку монастыри наряду с епископами стали частью формировавшейся феодальной системы христианской Европы. Но после смерти императора Карла Великого эта система переживала глубокий кризис, который был в первую очередь связан с упадком центральной власти. Ослабление императорской и королевской власти привело и к ослаблению церкви, церковных нравов и порядка в монастырях. Конечно, в любую эпоху можно найти плохих епископов, священников и монахов, но порой кажется, что в IX-X столетиях их было больше всего.
В действительности, если присмотреться более внимательно, то картина станет более сложной и многоцветной. Падение империи Каролингов, начавшееся примерно с середины IX века, сопровождалось многочисленными вторжениями извне: сарацинов, викингов, венгров. Это усугубляло феодальную анархию, наступление которой отмечается почти всеми авторами хроник того времени. Деградация охватила все слои общества, включая аристократию, из которой по большей части и выбирали кандидатов на высшие церковные должности. Кстати, Герберт стал своего рода исключением в этом смысле.
С другой стороны, в обществе росла потребность в реформах и очищении Церкви от недостойных. Такие процессы происходили время от времени на всем протяжении существования христианской Европы. Их кульминацией стала Реформация. На десятое столетие, особенно на его вторую половину, когда жил Герберт Аврилакский, пришелся первый всплеск движения за очищение церкви и возвращения к более строгим нравам. Речь идет о клюнийской реформе, с последствиями которой нашему герою пришлось сталкиваться не раз. Эта реформа затронула главным образом монастыри, но далеко не все из них во второй половине X века поддались ей. Например, знаменитый монастырь св. Колумбана, или Боббио, в Северной Италии. Герберту самому пришлось бороться с монахами этой общины в качестве аббата, о чем мы еще поговорим подробнее в другом месте.
Известная поговорка гласит: «Рыба гниет с головы». И если взглянуть на западную часть христианского мира десятого столетия, то дело обстояло именно так. В Риме аристократические кланы использовали папство в своих интересах, заставляя кардиналов выбирать на высший церковный пост своих ставленников. Хуже того, в период с 904 по 963 годы, в эпоху, которую позже назвали «порнократией», папы находились под полным контролем блудниц и куртизанок из рода Феофилактов.
Женщины этой семьи проталкивали на высший пост в церкви своих любовников, близких родственников и друзей. Как только папа, избранный столь гнусным образом на престол, перестал чем-то устраивать своих покровительниц, его немедленно свергали, убивали ядом или отправляли в тюрьму, где могли уморить голодом или замучить до смерти пытками. Папский престол превратился в игрушку для отпрысков знати, источник для обогащения, возможность вести жизнь в сплошных удовольствиях и разврате.
Если сам великий понтифик вел жизнь роскошную и далекую от церковных идеалов, о которых еще помнили, то почему так же не могло поступать духовенство рангом ниже: кардиналы, епископы и аббаты? Они уже давно превратились в феодалов и по своему образу жизни, а таже интересам, часто очень мало отличались от светских сеньоров. Более того, на высшие должности в церкви по большей части назначали людей из знати. И редко кто из них готов был отказаться от привычного образа жизни своих светских родственников. Таким людям было недосуг размышлять о духовных вещах, разве что на пороге смерти.
Один из аббатов Клюни говорил: «Руководители Церкви одержимы плотскими желаниями; их распирает гордыня, снедает жадность, расслабляет похоть, мучает злоба, обуревает гнев, раздирает несогласие, извращает зависть, убивает роскошь». Нередкими были случаи, когда епископы имели жен – «епископесс». Для них делали специальные комнаты в епископских дворцах. Другие епископы страстно увлекались охотой и предпочитали ее всем другим делам. Роскошные пиры, оргии и другие развлечения были привычным способом провождения времени для церковных деятелей того времени.
О нравах приходских священников нам известно мало, однако вряд ли их образ жизни был примером для окружающих. Обычно сельских кюре избирали сеньоры из числа местных крестьян. В этой среде привычным делом считалось иметь жен или любовниц, а безбрачие еще не закрепилось в качестве обязательного правила. В популярной средневековой литературе XII – XIII веков можно было часто встретить такого персонажа, как «жена священника». И это уже после того, как Церковь прочно закрепила в правилах безбрачие католического духовенство. А что творилось за пару-другую столетий до того, даже трудно представить!
Конечно, не все епископы и священники в то время вели неподобающий образ жизни. Были среди них и вполне достойные люди. Иногда в качестве примера такого рода приводят характеристики участников собора в Верзи 991 года, о котором я еще расскажу в подобающем месте. Однако и там были разные люди. Некоторые из них вели вполне пристойный образ жизни, но показали себя не с самой лучшей стороны в отношениях с аббатами и монахами монастырей своей епархии, как Арнульф Орлеанский и некоторые другие прелаты. Другие отличались сомнительными увлечениями и пороками, о которых не принято было рассказывать.
А что же происходило в монастырях? Как жили и вели себя монахи десятого столетия? Прежде отметим несколько исторических фактов. Образ монашества, как идеала аскетизма, известен довольно давно. Первые монахи и монашеские общины возникли на Востоке в III веке нашей эры. Оттуда они проникли на Запад. Но по-настоящему о великом монашеском движении в Западной Европе можно говорить лишь с VI века, когда на сцене появляется полулегендарная фигура Бенедикта Нурсийского. В 540 году он создал устав для западных иноков. На долгие столетия Бенедиктинский устав превратился в основу правил поведения в монастыре и среди мирян.
К X веку западные монастыри превратились в часть феодальной системы. После смерти Карла Великого и упадка центральной власти монастыри все чаще оказывались зависимы от местных светских и церковных феодалов. Как правило, монашеские общины делились на две большие категории: аббатства и приорства. Первые были довольно многочисленными и богатыми общинами, во главе которых стоял аббат. Вторые же могли объединять всего несколько человек, управляемых настоятелем, или приором. Приорами также называли заместителей аббатов. Когда по той или иной причине аббат отсутствовал в монастыре, то приор выполнял его обязанности.
Со времен Каролингов аббатства, являясь частью феодальной системы, выполняли различные важные функции по отношению к высшей светской власти и в обществе в целом. Аббаты превращались в вассалов государей или крупных сеньоров и приносили им соответствующую присягу. Нередко среди их обязанностей числилась военная помощь. В этом случае такое аббатство должно было выставить на помощь сеньору определенное количество воинов, являвшихся вассалами монастыря. Эти аббатства составляли особую категорию монастырей. Военная помощь королю или другому сеньору была их главной вассальной обязанностью. Другие же обители могли оказывать лишь материальную помощь или молиться за сеньора и его подданных.
В те времена существовала еще одна специфическая форма духовных объединений – капитулы каноников. Они объединяли священников, которые во времена Герберта не принимали монашеских обетов. Они жили в соответствии с требованиями специального устава, принятого в 816 году, и были обязаны помогать епископу в деле управления епархией и кафедральным собором. Хотя часто они жили общиной, однако, в отличие от монахов, не несли каких-либо строгих обетов.
В X веке вольные нравы многих общин каноников стали предметом ожесточенных споров в церкви на темы морали и церковной дисциплины. Эти споры развернулись на фоне шедшей в Западной Европе монастырской реформы, начатой аббатами Клюни в первой половине X века. В итоге, уже после смерти Герберта, в XI-XII веках институт каноников был существенно реформирован. Но при жизни нашего героя инициаторы церковной реформы предпочитали просто разгонять капитулы каноников, заменяя их монашескими общинами. Мы это еще увидим на примере ставшей родной для Герберта Реймсской епархии.
Школы и образование в X веке
В те времена не существовало светской системы образования в современном смысле. Школьное обучение и изучение высших наук было сосредоточено в монастырях и городских епископальных школах. Первые можно уподобить современным начальным и средним школам, а последние – современным университетам и институтам. Эта система обучения сформировалась еще во времена Карла Великого. Смерть императора, ослабление власти его потомков, военные бедствия IX-X веков привели к временному упадку монастырских и епископальных школ. Но во второй половине X столетия началось их возрождение, которое пришлось как раз на то время, когда учился, а затем преподавал и вел научную работу наш главный герой.
Маленькие монастыри, то есть приорства, где было мало монахов и мало материальных ресурсов, не могли содержать собственную школу. Поэтому низшие учебные заведения возникали преимущественно при аббатствах. При жизни Герберта существовало два вида таких школ: внутри и вне стен аббатства. Внешние школы содержались монахами и предназначались для детей любых сословий, даже для крепостных. Возможно, такая практика существовала не везде. Но мы точно знаем, что о ней в аббатстве Сен-Бенинь, располагавшемся в бургундском Дижоне. Здесь в школу принимали для бесплатного обучения не только свободных, но и крепостных. Об этом рассказывают разные документы, включая житие аббата Гийома, который в те времена руководил монастырем.
Каковы были правила и система обучения в этих школах, известно немного. Мы не знаем, обучали ли вместе в одном классе детей крепостных, свободных и детей богатых людей, или же процесс обучения был раздельным. Известно, что дети из крайне бедных семей обычно получали бесплатное питание, а порой и материальную помощь. Чему учили в таких школах? Вряд ли эти дети осваивали непростую науку письма и латинский язык, так как выпускники обычно возвращались к образу жизни, свойственную их положению в обществе. Поэтому, скорее всего, детей учили в устной форме: устному счету, основам вероучения, священной истории. Ученики также заучивали наизусть молитвы и в устной форме постигали жития святых. Это было не только и не столько обучение, сколько христианизация низов общества. И такое положение соответствовало задачам Церкви.
Герберт учился в школе аббатства св. Герольда (или Сен-Жеро). Такие учебные заведения относились к категории «внутренних школ», располагавшихся в стенах монастырей. Обычно сюда принимали детей, тех, кто жертвовал вклад в пользу монастыря. Ученики и становились послушниками (pueri oblati) и готовились стать монахами. Для этого необходимо было освоить более сложную программу, так как будущий монах должен был знать латинский язык, уметь читать и писать.
Латинский был не только языком литургических текстов, но и средством международного общения в западном мире. Монаху также нужно было уметь писать: ведь кто-то из братии должен был заниматься перепиской книг, ведением различных хозяйственных отчетов и другими важными делами, требовавшими навыков грамотного письма. Между прочим, многие из перечисленных обязанностей прямо предписывались уставом св. Бенедикта. Ведение обширного монастырского хозяйства и составление отчетов заставляли монахов осваивать арифметику и уметь считать. Для таких целей из числа братии выбирали особо грамотных людей.
Так чему же обучали в школе аббатства? Например, в монастыре, где подвизался Герберт, юные послушники осваивали грамматику, логику и риторику. Это была знаменитая средневековая система из трех наук, или «тривиум». Латинский язык в ней был основой основ. Тривиум – «троепутье», «перекресток трех дорог» – включал только основы средневековой системы обучения. Этого багажа знаний обычному монаху вполне хватало, если он не хотел учиться дальше и постигать более сложные предметы «квадривиума»: арифметику, геометрию, астрономию и музыку. В X веке эти науки обычно изучали уже в епископальных школах, хотя были исключения. Например, в Реймсе, где в 70-80-е годы X века преподавал Герберт, студенты осваивали всю программу семи свободных искусств, включавшую и тривиум, и квадривиум.
Порядок обучения тривиуму хорошо известен. Он был заложен в VII веке испанским ученым Исидором Севильским, который первым подробно описал план будущей системы обучения. Согласно ей, сначала ученики должны были заниматься грамматикой на примерах из латинской прозы, поэзии и исторических сочинений. Уже после Исидора современник императора Карла Великого ученый Рабан Мавр из Фульды писал, что грамматика «представляет собой науку, которая учит нас узнавать поэтов и историков и обучает нас искусству говорить и писать правильно». Ученикам приходилось непросто: они должны были не только в совершенстве овладеть латинским языком, но учить наизусть стихи, псалмы, отрывки из Библии и сочинений Отцов Церкви.
Но сложность обучения заключалась и в другом. В ту эпоху изучение грамматики и латинских текстов могло привести к неприятностями и стало предметом острых споров среди духовенства. Прежде всего спорили о том, что изучать дозволено, а что нет. Для изучения классического латинского языка требовалось глубокое знакомство с оригинальными текстами древних авторов. Но подавляющее большинство их было язычниками.
Но особо ревностных в вере деятелей Церкви смущало не только это. Сюжеты и мысли в некоторых сочинениях могли носить фривольный, а то и вовсе аморальный, по меркам средневековых понятий, смысл. Среди римских авторов самые яростные споры возникли вокруг Овидия. Но доставалось даже Цицерону. Поэтому в вопросах обучения многое зависело не только от учителя, но и от аббата. Герберту в этом смысле повезло, так как в его монастыре учили хоть и в рамках дозволенного, но без крайних ограничений. Учитель Раймунд позволял своим ученикам изучать языческих авторов. Герберт и его товарищи постигали тонкости латыни из книг Цицерона, Тита Ливия и даже Овидия.
Важным дополнением к грамматике считали риторику. Риторику раннего средневековья не стоит полностью отождествлять с ораторским искусством. Учителя считали более важным обучить подопечных искусству писать письма, или ars dictandi. И Герберт принадлежал к числу немногих, кто великолепно овладел этим навыком. Он подтвердил его сначала в качестве секретаря Реймского архиепископа, а затем – в качестве автора собственных посланий друзьям и великим мира сего.
Изучение диалектики завершало курс тривиума. В те времена под диалектикой понимали вовсе не то, что сейчас. Современники Герберта постигали ее для того, чтобы научиться логически и ясно мыслить, а также кратко и емко формулировать идеи. Авторитетом в этой области в средневековье считали Боэция. Он оставил немало трудов, среди которых особенно ценились его комментарии к сочинениям Аристотеля. Герберт великолепно знал Боэция, изучив его труды не только в Аврилаке, но и в Испании. Позднее нашего героя считали одним из знатоков сочинений «последнего римлянина».
Герберт изучал тривиум, будучи послушником в аббатстве Сен-Жеро. Давайте попробуем представить, в каких условиях жил и учился юный Герберт и его товарищи в середине X века. Для юных послушников действовали строгие правила, основанные на требованиях бенедиктинского устава. Но в каждом монастыре могли быть различные внутренние предписания. Иногда они могли сильно отличаться от монастыря к монастырю, поэтому выделим самые типичные и отметим самые необычные и даже абсурдные.
Послушникам нельзя было оставаться наедине с собой даже на самое короткое время. Но часто нельзя было оставаться без надзора даже двум послушникам. Например, в житии аббата Клюни Одона, скончавшегося в 942 году, говорится, что покойный также запрещал оставаться наедине учителю и ученику. Но в некоторых обителях по инициативе аббатов существовали еще более жесткие предписания. Например, в документах можно найти ссылки на правила архиепископа Кентерберийского Ланфранка. В свое время он начинал карьеру схоластика в Нормандии. По его указанию в школе осуществлялся постоянный надзор за юными учениками со стороны наставников. Учитель был обязан сопровождать детей, даже если они шли вдвоем. Среди предписаний и запретов Ланфранка и некоторых других учителей были и иные, порой абсурдные, для современного человека, правила. Но не будем утомлять читателя излишними подробностями.
Не обошлось и без целой системы поощрений и наказаний. Например, в одном из наставлений того времени говорилось: «Если мальчики совершат какой-либо проступок в пении псалмов, либо из-за сна, либо из-за чего-то подобного, пусть с них без промедления снимут верхнюю одежду и капюшон и бьют их по рубашке, но только мягкой и гладкой ивовой лозой – специально предназначенными для этого розгами … Если кто-то из мальчиков задержатся после отдыха, пусть их выпорют. Для детей нужна опека с дисциплиной и дисциплина с опекой. Пусть их наказанием будет либо розги, либо дерганье за волосы. Но ни в коем случае их нельзя наказывать пинками или кулаками».
Это только один из текстов того времени. Благодаря таким примерам хорошо понимаешь, насколько невеселой была жизнь юных послушников в монастырских школах. Нарушение правил могло привести к жестокому наказанию. Розги применяли даже за небольшие шалости. За повторные проступки детей могли наказывать карцером и лишением пищи. В начале X века в Клюни аббатом был некий Бернон, которого считают основателем знаменитого монастыря. Этот человек был просто одержим строгой дисциплиной и ради ее укрепления прибегал к самым жестоким методам, в том числе в отношении учеников. Карцер и лишение пищи были довольно частым наказанием даже для детей в школе Клюни. Его методы вызывали осуждение даже у современников, которые писали о нем так: «Разбойник, а не монах; тиран, а не отец; забияка и живодер, а не исправитель нравов и воспитатель».
Впрочем, ученики тоже не всегда смирялись с таким отношением к себе. Иногда они устраивали бунты, а иногда даже поджигали школы. Поджоги случались обычно там, где практиковались особо жестокие наказания. Один из таких случаев описывается в хронике знаменитого монастыря Санкт-Галлен. В тот день, когда нерадивых учеников должны были подвергнуть порке розгами, молодые люди подожгли здание монастырской школы. Общине был нанесен большой ущерб. После этого на некоторое время практика физических наказаний была прекращена. И это вовсе не было чем-то необычным.
Завершающим этапом получения образования во времена Герберта было поступление в епископские, или епископальные школы. По своему назначению и функциям епископальные школы можно с некоторой натяжкой сравнить с современными высшими учебными заведениями. Собственно, они и послужили основой для создания университетов через пару столетий после смерти Герберта. Школы были призваны дать своим ученикам более широкие и глубокие познания в науках. Именно в таких учебных заведениях тогда можно было завершить полный курс обучения свободным искусствам. В некоторых даже дополнительно получить знания в области медицины или права.
Во времена Герберта епископальных школ было не очень много. Некоторые из них были известны далеко за пределами своего города и даже целой страны благодаря таким незаурядным схоластикам как Герберт Аврилакский, Фульберт Шартрский и другим ярким, талантливым личностям. Были и другие, менее заметные и разносторонне образованные преподаватели. И они тоже сыграли важную роль в развитии своих учебных заведений. В конце концов, в те времена не было принято открывать что-то новое. Вся научная деятельность сводилась скорее к комментированию известных и авторитетных авторов. Кстати, и обилие рукописей под названием «Комментарии к…», не должно никого удивлять: это была особая эпоха. В этом смысле Герберт тоже не внес чего-то кардинально нового в научное наследие, но зато прославил Реймсскую школу на всю христианскую Европу.
Ее учебная программа хорошо известна благодаря Рихеру Реймсскому – ученику Герберта. И можно предположить, и с достаточным на то основанием, что в других епископальных школах обучение шло примерно по такому же плану, как в Реймсе. Во второй половине X и начале XI века учебные заведения такого же типа создавались в Париже, Шартре, Орлеане, Лане, Туре, Пуатье, Льеже, Туле, Кельне, Трире, Майнце, Страсбурге, Хильдесхайме, Магдебурге и Регенсбурге.
Большинство перечисленных школ того времени не получили такой известности, как реймсская. Но это все было временно и относительно. Система образования переживала становление, и на этом пути происходили самые необычные с виду вещи. Например, иногда монастырские школы по качеству и широте образовательных программ превосходили епископальные школы. В X-XI веках так было с монастырскими школами Санкт-Галлена, Рейхенау и Фульды. И даже монастырская школа маленького и относительно небогатого Сен-Жеро, могла смело соперничать с некоторыми епископальными учебными заведениями, хотя в Аврилаке учили только тривиум.
Почему же так получалось, что одни школы процветали и становились известны чуть ли не на всю Европу, а другие тихо и мирно прозябали, оставаясь мало кому известными? Как и в наше время, многое в те времена зависело от личности преподавателя (схоластика) и тех, кто руководил школой. Именно этот фактор во многом определял то простое обстоятельство, что к началу XI века, к моменту смерти Герберта, на его родине существовало не так много епископальных школ. Кроме Реймса приобрели известность учебные заведения Лана и Парижа (при соборе Нотр-Дам, а также при монастырях Сен-Виктор и Сен-Женевьев). Появлялись неплохие школы в других епископских городах. Но их по-прежнему было мало.
Но, отмечая это обстоятельство, стоит помнить, что процент образованных людей в то время был ничтожно мал. Далеко не все ощущали потребность в знаниях, а многим обучение по тем или иным причинам было недоступно. Поэтому неуклонное увеличение новых школ после смерти Герберта было хорошим знаком. Например, прославилась школа при аббатстве Ле-Бек в Нормандии. В ее создании главную роль сыграл архиепископ Кентерберийский Ланфранк, который до своего возвышения начинал карьеру схоластика в нормандском Авранше. При всех его далеко неидеальных качествах Ланфранк принадлежал к когорте тех, кто был искренне заинтересован в создании качественной системы образования. Разумеется, для целей Церкви.
В епископальных школах учились люди самых разных сословий и возрастов. Здесь можно было встретить и сына крестьянина, и принца королевских кровей, и совсем юного студента, и относительно немолодого представителя церкви. Кто-то приходил сюда сразу после монастырской школы, чтобы продолжить образование, кто-то хотел расширить свои знания и изучить новые науки. И, конечно, студенты предпочитали приходить учиться туда, где преподавал известный и авторитетный схоластик.
Таких людей было не очень много, а их уход из той или иной школы мог повлечь за собой массовый уход студентов. Это в свою очередь влекло за собой материальные и репутационные потери для руководителей школы. Поэтому талантливых схоластиков старались хорошо поощрять материально. Это видно на примере Герберта Аврилакского, Фульберта Шартрского и других известных ученых того времени.
Что же касается студентов, то в материальном плане они делились на две большие категории. В первую входили те, кто был низкого происхождения и не имел средств на обучение и проживание. Они получали образование, питание и одежду за счет школы. В хороших школах талантливых учеников из низов старались беречь и по возможности опекать. В начале XI века Фульберт Шартрский писал учителю богословия Гильдегеру из Пуатье: «Позаботься, чтобы твои ученики не голодали и не были раздеты». Такие ученики жили они там, где указывал епископат. Это налагало определенные ограничения.
Зато таких ограничений были лишены студенты из богатых семей. Они платили за обучение сами, точнее из родительского кошелька, и сами выбирали себе место проживания. Это позволяло им вести более свободный образ жизни и порой увлекаться весьма непристойными вещами. О похождениях таких студентов потом складывали легенды. Некоторые гуляки позднее пересматривали свои взгляды и кардинально меняли образ жизни, превращаясь в конце жизни в образец для житий святых.



