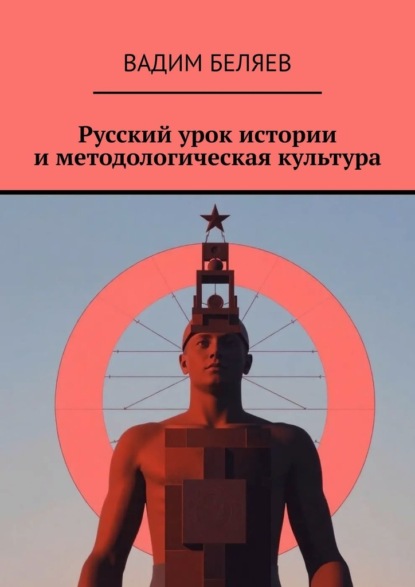
Полная версия:
Русский урок истории и методологическая культура
Почему для Авторов это так? Снова хочу указать на их фундаментальную логику борьбы светлого и темного богов. Такого рода борьба не должна иметь ограниченный, локальный смысл. Она не должна наталкиваться на то, что может сделать эту борьбу бессмысленной – общечеловеческие ценности. Представим себе, что зороастрийские боги обнаруживают некоего бога-третейского судью. Он говорит им, что можно не вести мировую борьбу, не готовиться к этой борьбе, что возможно примирение как конец истории. Что должны почувствовать боги, готовые воевать? Они должны почувствовать потерю смысла своего существования. Ведь этот смысл для них присутствовал как смысл мировой битвы добра и зла, светлого и темного начал. Если вдруг оказывается, что нет никакого светлого и темного, а есть просто разные субъекты, каждый из которых мыслит себя светлым, а своего оппонента – темным, то для этих субъектов должно наступить состояние потери фундаментального смысла – глобальное обессмысливание.
Если на позицию Авторов смотреть именно так, то станет понятным, почему для них распад СССР как субъекта глобальной холодной войны является фундаментальным смысловым поражением и почему погружение постсоветской России в глобальный либеральный мир является ее растворением в западной цивилизации как небытии. Светлый бог умер, он оказался побежденным темным богом. Со стороны адептов светлого бога это должно восприниматься как потеря высшего смысла. Что им нужно делать? Восстанавливать этот смысл, собирать силы для нового этапа битвы богов. Своего противника нужно представить в негативном ключе. В нем не должно быть никакого общечеловеческого – только культурно-специфическое, только темное начало. Нужно постоянно утверждать, что Запад – это только враг, что декларации с его стороны об общечеловеческом мире – это лишь обман.
Разговор о методологической культуре в этом контексте – это разговор о занятии позиции по ту сторону логики борьбы богов, занятии позиции объективного (насколько это возможно) анализа.
Во-вторых.
Имеет смысл более дифференцированно высказаться относительно следующих тезисов Авторов.
«Судьба опознаётся как должное. Вот такой вроде бы парадокс: с одной стороны, это, бесспорно, творческий акт – никто вроде бы нам приказы сверху не спускает, мы сами в меру своего понимания и воображения полагаем себя и свою судьбу. А с другой, мы относимся к этому как к должному. Исходим из того, что не только мы являемся Авторами своей судьбы. Есть ещё и Тот, перед кем придётся держать ответ как за своё понимание/непонимание, так и за исполнение задания, которое мы должны свободно принять. Свободно, потому что мы вольны и уклониться от него. Хотя лучше этого не делать.
Свобода заключается в том, чтобы понять свою судьбу и подчиниться ей вопреки обстоятельствам и соблазнам. Свобода – в следовании своему пути. Свобода в том, чтобы быть тем, кем – в соответствии с пониманием (откровением) – начертано. Поэтому полагание пути есть одновременно и полагание себя, решение подчиниться судьбе, решение быть кем-то определённым. Это гибкость и свобода в выборе действий, в тактике и может даже стратегии, но одновременно это фиксация себя и подчинение Его воле. Это определение констант своего существования».
Что представляют собой свобода и творчество в обрисованных Авторами обстоятельствах? Это ветхозаветно понимаемая свобода первых людей в Райском Саду. С одной стороны, у них есть возможность выбирать: срывать плоды с древа познания добра и зла или нет. С другой стороны, есть запрет на это, который поставил Бог. Вроде бы есть свобода, но её проявление оказывается только отрицательным. Существует только один путь, заданный Богом. В этой логике вся человеческая свобода, проявленная в истории, является продуктом негативно понимаемой свободы. Она проявляется как волюнтаризм, как отпадение от божественных заповедей. В этом смысле человеческая история (если она хочет соответствовать исходным божественно установленным направленностям) должна быть утверждением «человека пассивного». Он не должен выдумывать себе жизненных целей. Он должен реализовывать то, что ему предзадано. Это восстановление пути к утраченному раю. Свобода у человека есть, но её положительный смысл ему предзадан.
Ровно такой же смысл утверждают Авторы. С одной стороны, человек признаётся творческим существом, которое создаёт реальность вокруг себя и смыслы своего существования. Но с другой стороны, есть Тот, кто задаёт общий смысл человеческого существования. Он создаёт предначертание для человека. Предельный смысл человеческого существования предзадан. Так Авторы вводят религиозный и абсолютный план отсчёта. Историческая судьба России оказывается уже не продуктом человеческого волюнтаризма, а реализацией божественного плана относительно русской истории. В этом смысле противостояние России и Запада с неизбежностью должно быть противостоянием культурно-исторического движения, которое соответствует божественному плану, и культурно-исторического движения, которое этому плану не соответствует. Так мы получаем вариант «битвы богов», но в рамках единобожия. Россия выступает в роли того, кто соответствует Божьей воле, а Запад – в роли того, кто ей противится.
В этом смысле Авторы делают движение в направлении «нового средневековья». Если говорить о методологической культуре, то её увеличение и сохранение следует считать результатом выхода из средневекового состояния противостояния религиозно обосновываемых культур. Я говорил о том, что модерн в одном из своих решений является решением проблемы противоборства культурных систем через утверждение единой человеческой природы, разделённой социокультурными представлениями. Если современное глобализированное человечество можно считать реализацией (пусть и несовершенной) этого пути, то Авторы предлагают движение в противоположном направлении. Они и утверждают «новое средневековье», и сбрасывают методологическую культуру.
В-третьих.
Рассмотрим более подробно следующие тезисы Авторов.
«У каждого народа, у каждой нации так же, как и у человека, есть своя Судьба. Свой «многопоколенный» цикл от рождения до смерти. Судьба – это задание: что мы все вместе, все поколения должны сделать – сделать вовне, сделать из себя. Знание о судьбе объективно и должно существовать независимо от конкретных людей. В головах же отдельных личностей это задание может присутствовать какими-то частями, аспектами, фрагментами. Но важно, чтобы оно было в том или ином виде, важно личное отношение к этому предназначению, прикрепление к нему. Отношение к своей судьбе не может быть нейтральным, как к солнцу, которое восходит и заходит.
Знание своей судьбы до тех пор, пока оно присутствует в жизни народов и политических наций, позволяет им сохраниться. Им есть что защищать по самому большому счёту: свою мечту, своё предназначение, возможность прожить собственную, а не чужую жизнь. Это и есть основа солидарности ныне живущих с предками, с потомками. Для отдельного человека судьба народа и нации – тот предельный объём жизни, в котором он может мыслить себя участником».
На первый взгляд, эти тезисы кажутся неотразимыми. Каждый субъект (индивидуальный или коллективный) может иметь свой специфический жизненный путь, который связан с его особенностями. Утрата этого пути может выражаться в ощущении потери смысла существования, в ощущении того, что ты проживаешь не свою, а чужую жизнь.
Но как это соотносится с теми планами жизненных проблем и решений, о которых я говорил? Иметь свою судьбу – это иметь свою систему проблем или свою систему решений единых для всего человечества проблем? У Авторов вполне прорисовывается перспектива, по которой своя судьба – это своя система проблем. Со своей стороны, я ставлю вопрос: можем ли мы связать разговор о своей судьбе с теми социокультурными метаморфозами, которые я рассматривал, говоря о формировании общечеловеческих проблем и решений? Я отвечаю на этот вопрос положительно.
Я говорил о том, что одной из общечеловеческих является проблема конфликта культурных систем. Каждая из таких систем изначально задана своим идеологическим планом (можно сказать, своей судьбой). Конфликт культурных систем в этом плане является идеологическим, точнее сказать, онтологическим. Каждая из культур имеет свою онтологию мира, которая ставит эту культуру в центр мироздания и делает все остальные культуры областью небытия. Конфликт культур в этом смысле является конфликтом материализованных онтологий. При этом возможны разные варианты исхода этого конфликта: 1) культуры уничтожают друг друга в борьбе; 2) культуры истощают силы и прекращают борьбу, не изменяя своего культурного самосознания; 3) одна из культур побеждает все остальные и устанавливает свою онтологию в качестве глобальной; 4) ни одна из культур не побеждает, но все они осознают эту борьбу как глобальный жизненный вызов, ответом на который должна стать новая «посткультурно-интеркультурная» социокультурная архитектура и соответствующее самосознание.
Будем называть исходную социокультурную архитектуру «культурной» (культурной в кавычках). В ней каждая из культур будет осознавать свой путь как единственный подлинный путь, свою судьбу как единственно возможную для себя судьбу. Вхождение в борьбу культур всех против всех, осознание глобального вызова этой борьбы должно направить в качестве ответа на формирование «посткультурно-интеркультурной» архитектуры и самосознания. Должно будет сформироваться представление о коммуникативном аспекте мирового человеческого существования. Имея в виду множество культур и их онтологических отличий, нужно будет создать общечеловеческий уровень, который будет объединять все человечество. То есть нужно будет положить предел онтологической экспансии каждой из культур. Каждая культура должна будет создать в себе пространство общечеловечности. Это будет пространством общечеловеческих проблем и решений. Это пространство можно будет назвать посткультурным.
Теперь представим себе, что модерн (новоевропейская культура) является культурной областью, в которой актуализировался описанный вызов борьбы культур всех против всех и создан посткультурно-интеркультурный ответ. Представим себе, что глобализация модерна распространила этот ответ на все человечество. Современная мировая интеркультура будет результатом такой глобализации. Представим, что посткультурная составляющая интеркультуры достигла большого значения, и те культурно-специфические содержания, которые раньше были актуальными, деактуализируются. Далее представим, что современное человечество пришло к очередному кризису. Для всех субъектов человечества ставится вопрос о сути этого кризиса. Каждый из субъектов ищет путь выхода из него.
В качестве одного из главных путей выхода будет утверждена консервативная (по сути контр-модернистская) программа. Она будет утверждать, что суть кризиса состоит в потере народами (культурами, цивилизациями) своей исходной судьбы, своей идентичности. Они смешались в одно неразличимое нечто и потеряли смысл своего существования. Выход из этого кризиса только один – в возврате к своему исходному смыслу. В чем для консерватизма состоит исходный смысл народа, его судьба? В его до-модерновых определениях. Консерватизм должен утверждать возврат к этим определениям как возврат к своей судьбе, как возможность проживать свою, а не чужую жизнь.
Но нужно обратить внимание на то, что таким образом воспроизводится исходный вызов противопоставления культурных миров.
Кроме того, воспроизводится еще один вызов, связанный с «культурной» социокультурной архитектурой: вызов идеологического общества. По размерности «культура – индивид» «культурная» архитектура создает вызов идеологического общества, то есть такого общества, в котором установлена «сверху и для всех» система предельных представлений о мире (предельная онтология) и институционализированный контроль над сознанием. Для средневековья это выражалось в понятиях: «инквизиция», «ереси», «инакомыслие», «охота на ведьм», «индекс запрещенных книг» и т. п. В обобщенном виде эти понятия относятся ко всем вариантам идеологических обществ. Когда Авторы говорят о том, что отдельный человек должен поместить себя (его нужно поместить) в рамки «своей» культуры и «своей» культурной судьбы, то они осознанно или неосознанно конструируют новое идеологическое общество. Точнее сказать, они возвращаются к прежнему варианту идеологического общества.
Модерн в этом отношении можно рассматривать как переход от идеологического общества к постидеологическому. Таким будет то общество, в котором нет установленной «сверху и для всех» системы предельных представлений о мире и институционализированного контроля над сознанием. На этом месте должна быть установлена коммуникативная архитектура конструктивного сосуществования разных предельных онтологических представлений. Эти представления можно будет иметь, но они не будут едиными для всех, не будет формирования этих представлений через институты общества.
Что утверждают Авторы в этом отношении? У них просматривается стремление вернуть идеологическое общество как таковое, в котором утверждена и институционально защищена «судьба» (как система коллективных представлений о мире и самих себе). Через это человек получит возможность прожить свою судьбу и иметь настоящий смысл своего существования.
Итак, Авторы рассматривают модерн и современный глобализированный мир как то, что отнимает у культур их исходный смысл, судьбу и утверждает вместо этого чужой смысл и чужую судьбу. При этом деактуализируется все, что связано с вызовами борьбы культурных систем и их внутренней структурой как идеологических обществ, все, что связано с позитивным пониманием посткультурно-интеркультурной и постидеологической архитектуры. Авторы просто не мыслят в этом направлении. Это нельзя назвать иначе, чем сбросом методологической культуры.
3. От «вечного мира» к борьбе цивилизаций?
Вот что Авторы пишут в параграфе «О конце Истории».
Существуют системные усилия по разрушению представлений о возможности исторического существования и понимания своей человеческой природы. Постмодернистский дискурс утверждает, что концепция истории как пространства человеческого существования окончательно закрыта. Вопросы о назначении и смысле жизни, а также о направлении человеческого развития больше не значат ничего. Пропаганда «конца истории» является попыткой обесточить конкурентов, лишая их воли и стремления к самоопределению. Будущее социальное устройство будет основано на новых управляющих иерархиях, которые включат не только людей, но и целые страны и регионы. Современный европеец теряет способность к пониманию своего прошлого и текущих реалий, что ослабляет его способность к самоопределению. Ожидается обрушение привычных структур современности и ухудшение уровня жизни, что может изменить представление о мире, но уже будет слишком поздно для сопротивления.
А вот как можно передать квинтэссенцию пафоса Авторов.
«Постмодернистский дискурс утверждает, что Истории как пространства существования человечества и каждого отдельного человека больше нет.
Если история закончилась, то это значит, что человеку и человечеству теперь не нужно вникать в исторический смысл и значение своего бытия. Сам вопрос «откуда мы и куда идём?» оказался упразднён: больше никто и никуда не двигается. Все вопросы о назначении человека и смысле его существования упразднены: больше нет ни замыслов, ни планов. Не за что биться, нечего отстаивать, некуда стремиться, не с кем бороться. Кругом политкорректность, толерантность и мультикультурализм. Нет больше смысла в Человеке, нет больше в мире места для личности и поступка».
Проанализируем сказанное.
Самое поразительное в этих тезисах то, что Авторы откровенно не хотят мира. Авторы обосновывают это как необходимое содержание мировоззренческой позиции в ситуации, когда какая-то социокультурная система (или цивилизация) хочет господства над всем человечеством. Эта цивилизация будет в качестве пропаганды утверждать конец истории, наступление вечного мира и тому подобное. Этой пропаганде поддаваться нельзя. Нужно готовиться к борьбе, нужно утверждать логику противостояния систем и цивилизаций.
С моей точки зрения, всё это является способом обосновать нечто более глубокое, что касается фундамента человеческой природы и отношения этой природы к понятиям «борьба», «война» и тому подобное. Когда сегодня читаешь о войнах прошлого, о воинственных культурах, о воинской этике, о пафосе человеческого состояния как войны, то это иногда кажется слишком далеким от современности. Но когда теоретики, подобные Авторам, начинают воспроизводить пафос воинственности как фундаментальный человеческий пафос, то закрадывается мысль о том, что воинственность является одним из фундаментальных слоев человеческой природы. Когда мир поглощен войной, то этот пафос смешивается с различными факторами, которыми можно объяснить причины той или иной войны. Но когда вот так, в чистом виде, высказывается тезис о том, что долгий мир (а тем более «вечный мир») является неприемлемым («не за что биться, нечего отстаивать, некуда стремиться, не с кем бороться»), то возникает представление о том, что здесь дело в какой-то фундаментальной стороне человеческой природы. Эта сторона хочет с кем-то бороться.
Если подразумевать, что утверждение необходимости с кем-то бороться осуществляется в контексте «открытого» общества и универсума (который утверждается модерном), то это можно рассматривать как необходимое условие природной и социокультурной динамики. «Открытый» универсум наполнен процессами эволюции на разных уровнях, сменой одних жизненных форм другими, борьбой за существование, борьбой за доминирование и тому подобное. Те, кого можно считать субъектами эволюции, должны в достаточной мере быть наполненными стремлением к борьбе, отделением себя от других, конкуренцией. Всё это будет движущей силой эволюции. Примерно то же самое можно говорить и об «открытом» обществе (в локальном и глобальном масштабах). Там тоже должны быть процессы эволюции, смены одних форм другими. Движущей силой такой эволюции тоже должны быть направления на отделение и противопоставление себя другим. Если мы именно так рассматриваем реализацию пафоса борьбы, то современный глобализированный мир будет наполнен такой конкуренцией и борьбой. Различные научные и технические исследования предполагают наполненность учёных и инженеров пафосом поиска новых фактов и построения новых теорий. Всё это происходит в борьбе различных течений и парадигм. То же самое можно сказать обо всех творческих деятельностях.
Кажется, что современный мир наполнен такого рода борьбой до предела. Почему это не устраивает Авторов? Потому что Авторы хотят борьбы не на этих уровнях, а на уровнях культур и цивилизаций, на уровнях их предельных онтологий. Имея в виду всё, что я говорил раньше о посткультурно-интеркультурной логике модерна, можно говорить о том, что Авторов не устраивает сама тенденция на прекращение культурно-цивилизационных противостояний. Они предлагают делать шаг назад к до-модерновому состоянию. Тогда в их представлении снова наступит возможность говорить о своей судьбе, возможность за что-то биться, что-то отстаивать, куда-то стремиться, с кем бороться. Авторам хочется монументальности борьбы, её эпического размаха. При этом предполагается восстанавливать логику идеологического общества. Борьба будет происходить не только с внешними врагами, но и с внутренними. Снова будет борьба с инакомыслием, охота на ведьм, инквизиция и тому подобное.
Печально то, что Авторы просто проходят мимо той логики, которая была выработана модерном в отношении посткультурно-интеркультурной архитектуры и постидеологического общества. Они её просто не видят. Для них на уровне народов, культур и цивилизаций существует только борьба, которая в предельном смысле является онтологической борьбой, борьбой бытия с небытием. «Мы» находимся в бытии, «они» – в небытии. Авторы подчеркивают то, что современная ситуация является кризисной и критической. Скоро наступят существенные изменения в мировом раскладе сил, после которых многие народы окажутся в подчинённом положении. Это задается как безусловная и объективная картина происходящего. Стремление к миру, для Авторов, на этом уровне является только иллюзией или откровенным обманом. В этом можно видеть простую проекцию той «борьбы цивилизаций», которую Авторы принимают в качестве предельной онтологии. Может быть, борьба не составляет последнюю суть происходящего на этом уровне, но такую суть надо утверждать. Надо утверждать, что здесь нет ничего кроме борьбы, а все разговоры о мире – это только пропаганда для ослабления противника. Авторы даже не пытаются отделить в реальности современного глобализированного человечества тот слой, который является утверждением мира, от того слоя, который задан стремлением к господству, к борьбе своей цивилизации со всеми другими.
4. «Культурная» социокультурная архитектура, объективный подход к истории и логика мирового консерватизма
Вот что Авторы пишут в параграфе «О конструировании Истории».
Личность формируется через самоопределение, основанное на прошлом, настоящем и будущем. Исследование исторических процессов требует творческого подхода и понимания; история не является лишь набором фактов. Личные и исторические пути взаимосвязаны; создание истории происходит через индивидуальное самоопределение. Путь человека воспринимается как «сплошное настоящее», где прошлое и будущее объединены в единой картине. Понимание своей судьбы формирует подлинное историческое знание, организуя фактический материал. Верность исторических реконструкций проверяется через действие и взаимодействие с исторической реальностью. История всегда имеет конструктивный элемент и зависит от позиции исследователя; отличается от простого исторического материала, который «молчит». Итак, история и личность человека формируются через самоопределение и понимание, где прошлое и будущее связаны в едином непрерывном процессе.
«Ответ на вопрос «кто я?» не может быть произволен. Я есть тот, кем я был, кто я есть и кем я буду. Вместе с тем «кто мы, откуда пришли и куда идем?» – вопрос творческий. <…>
Что является доказательством верности той или иной исторической реконструкции? Свидетельством того, что всё это не пустой вымысел, не волюнтаризм его Авторов? Ответ известен: общественно-историческая практика. Только сам деятель, реализуя в соответствии с пониманием (откровением) свою судьбу, может в исторической перспективе доказать, что его картина была верна. Она либо позволит ему сделать очередной шаг и исторически выжить, либо он сломает себе шею, и тем самым будет доказано, что он ошибался. <…>
Такие представления явно противоречат широко распространённому мнению, что нам нужна «история как она есть», «вне идеологии». Мы полагаем, что «истории как она есть» просто не бывает».
Проанализируем сказанное.
Нужно обратить внимание на то, что Авторы доводят до предела то понимание истории, которое является продуктом её целенаправленного конструирования. Причём такого конструирования, которое создаёт противопоставленные друг другу культурно-исторические системы, вступающие в борьбу. С другой стороны, Авторы утверждают, что ответ на вопрос «Кто я?» не может быть произвольным. Утверждается, что ответом на этот вопрос должно быть соединение прошлого, настоящего и будущего в одно целое.
Если говорить более просто и конкретно, то Авторы предлагают вернуться к до-модерновой ситуации борьбы культурных систем, к «культурной» социокультурной архитектуре. Для такого возврата утверждается, что необходимо выстраивать настоящее и будущее так, чтобы они продолжали логику до-модернового прошлого, и отрицать возможность и осмысленность объективного подхода к истории.
Но что такое объективный подход к истории в логике модерновой посткультурной и интеркультурной революции? Я говорил, что исходным пунктом этой революции является вызов борьбы культурных систем, который для европейского сознания проявился через эпоху религиозных войн после Реформации. Большая католическая культурная система распалась на множество мелких культурных систем, и все они вступили в противоборство друг с другом. Для европейского сознания это была мировая культурная война. Разрешением её стал Вестфальский мир. Но что такое этот мир в отношении к объективному взгляду на историю? Можно ли в логике этого мира увидеть формирование такого взгляда? Я положительно отвечаю на этот вопрос. Мировая культурная война должна была осознаваться теми, кто был погружён в её стихию, примерно в тех определениях, которые дают Авторы. Каждая сторона создаёт своё представление об историческом пути, универсализирует и проецирует свою истину в будущее и не мыслит альтернативы своему пути. В результате этого и создаётся мировая война культур. Что нужно сделать, чтобы не только прекратить войну, но и уничтожить её предпосылки? Нужно выстроить единое жизненное, культурно-историческое пространство, в котором человеку можно было бы существовать вне его культурно-исторических определений; необходимо отделить настоящее и будущее от прошлого, то есть надо создать новое будущее, которое свободно от противостояния культур; необходимо утвердить возможность объективной позиции по отношению к истории, которая создаст когнитивные основания для мирного сосуществования культурных систем.

