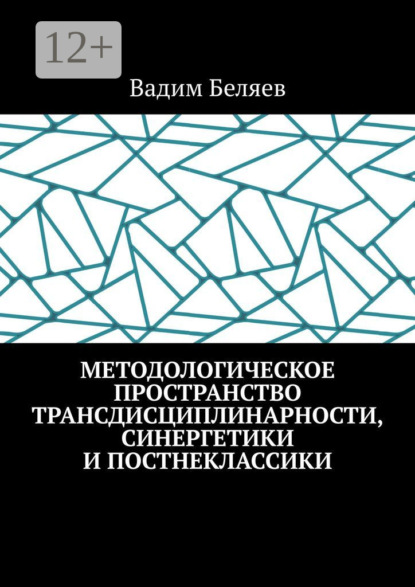
Полная версия:
Методологическое пространство трансдисциплинарности, синергетики и постнеклассики
Возникающие в этих типах трансдисциплинарные ситуации будут принципиально отличаться друг от друга.
Первый тип ситуации является тем, который можно назвать «транскультурным» или «интеркультурным». Логично подразумевать, что в роли «дисциплин» здесь выступают социокультурные системы. Самым главным типом проблемной ситуации в этом случае будет конфликт культур. Я уже вводил представление о том, что модерн является переходом от «культурной» социокультурной архитектуры к «посткультурно-интеркультурной». Я говорил, что «трансдисциплинарным» ответом на вызов негатива «культурной» архитектуры можно считать «посткультурную» революцию, то есть создание реальности по ту сторону всех культурных миров, которая смогла бы стать основанием нового, освобожденного и объединенного мира. При этом логично подразумевать, что «посткультурная» революция только в идеальном варианте может сформировать «чистую посткультуру». В другой терминологии «чистая посткультура» может пониматься как чисто общечеловеческий мир, в котором нет специфически «культурных» ценностей и жизненных форм. В компромиссном варианте «посткультурная» революция должна формировать «интеркультуру», такую архитектуру, которая сохраняет «культурности», но оставляет их под условием ненарушения «посткультурно-общечеловеческого» уровня.
Если говорить о нерефлексивных основаниях философии трансдисциплинарности, то в проведенном только что анализе можно выделить две стратегии: 1) направленность к формированию «посткультурного» мира, который в промежуточном варианте выступает в виде «интеркультуры»; 2) направленность к «новой культурности». Для первой стратегии вызовом является фундаментальный конфликт «культур» как специфических социокультурных миров, сконцентрированных на себе. Ответ на этот вызов должен направлять к актуализации «посткультурной» направленности. Для второй стратегии вызовом является «потеря идентичности», которая связывается с господством «посткультуры» как унифицирующей глобальной цивилизации. Ответ на этот вызов направляется к восстановлению в правах «культурности». В своей предельной версии он восстанавливает позитивно понимаемую «войну культур».
Итак, первый вариант «интеркультурного» понимания трансдисциплинарности можно рассматривать как столкновение «культур» в пространстве. Второй вариант можно назвать столкновением «культур» во времени. Он будет касаться динамического аспекта социокультурных систем. В этом отношении я говорил о модерне как о переходе от стратегии «закрытого» общества-универсума к стратегии «открытости». В «закрытом» обществе субъект утверждается как позитивно понимаемый «человек пассивный», которому предзадан структура общества, конкретная позиция и жизненная программа внутри этого общества. Человек не должен менять систему и свое положение в ней, он должен реализовывать то, что ему предзадано. В «открытом» обществе система предполагается как та, которая создана самими субъектами. Субъект находит то место в этой системе, которое выбирает как свое предназначение. Таково утверждение позитивно понимаемого «человека активного». Представление о «закрытом/открытом» универсуме является универсализацией представления о соответствующем типе общества.
Для стратегии «открытости» общества полагаются как системные организованности, которые сменяют друг друга через познавательно-деятельное развертывание человеческой природы. Каждая «дисциплинарность» в этом процессе является только промежуточным пунктом. Трансдисциплинарность здесь проявляет себя как бесконечная открытость новому. Но если брать в расчет оба стратегических направления, то можно говорить, что на протяжении всего развертывания модерна актуализировались как направленности к «открытой» архитектуре, так и попытки вернуться к «закрытости». Стратегия «открытости» актуализировалась в контекстах, которые выявляли негативно понимаемую «закрытость». Стратегия «новой закрытости» актуализировалась в ситуациях, которые можно было проинтерпретировать как негативно понимаемую «открытость», «плохую бесконечность».
Итак, в «интеркультурном» типе трансдисциплинарной ситуации можно выделить: 1) ситуацию столкновения «культур» в пространстве; 2) ситуацию столкновения «культур» во времени. В первой ситуации действует «посткультурная» и «новая культурная» стратегии. Во второй ситуации действует стратегии «открытости» и «новой закрытости». Хотя развертывание модерна является в целом движением в рамках стратегии «посткультурности» и «открытости», не прекращались актуализации стратегии «новой культурности» и «новой закрытости». Чем больше в реализованном модерне проявлялись кризисные ситуации, тем больше аргументов оказывалось у контр-модернистских стратегий.
Все это надо иметь в виду при анализе трансдисциплинарных ситуаций. Каждую такую ситуацию можно рассматривать на предмет проявления в ней указанных типов трансдисциплинарности и стратегий внутри этих типов.
Если теперь мы посмотрим на то, как Автор описывает логику действия «общности по настроению», то увидим, что скорее разговор идет об «интеркультурном» типе трансдисциплинарной ситуации, чем наоборот. Утверждается, что благодаря общности по настроению «расходящиеся в истолковании реальности философские и дисциплинарные подходы, личностные и цеховые предпочтения… могут быть удержаны в условных „рамках“ единой исследовательской перспективы». С моей точки зрения, здесь речь должна идти о жизненных вызовах, которые направляют в качестве ответа в том или ином направлении и могут служить тем, что создает общность. Но сами вызовы можно рассматривать как кризисные ситуации, которые можно проинтерпретировать разными фундаментальными способами. Когда я говорил о «посткультурном» и «новом культурном» ответах на вызов кризиса современности, я имел в виду именно это. Есть ощущение глобального кризиса, но это еще не создает «общего настроения». Общее настроение создается общностью интерпретации этого кризиса. В отношении модернового контекста его кризисы могут интерпретироваться как с точки зрения «посткультурной», так и с точки зрения «новой культурной» перспективы. В рамках этой логики не может быть «глобального общего настроения». Если такое настроение возможно, то оно относимо к достаточно локальным кризисам и ситуациям. И вообще, возможность «общего настроения» будет определяться степенью обобщенности интерпретирующих взглядов. Любую кризисную ситуацию можно рассматриваться с точки зрения проявления в ней глобальных сил и принципов. При желании любую ситуацию в мысли можно превратить в глобальную и действия в рамках этой ситуации рассматривать как глобальные.
Это очень хорошо видно в контекстах социально-мировоззренческих революций. Такого рода революция сама по себе является продуктом глобализированного мышления, сводящего разного характера и масштаба жизненные вызовы в единую систему и придающего этой системе предельный смысл. Мышление в логике революции является глобальным мышлением, в котором нет места частностям. Это очень важный пункт. Прекращение действия этой логики происходит через «локализацию» мышления. Приходит осознание, что борьба высших принципов является разрушающей. Поиск конструктивного пути связывается с прекращением действия глобального мышления, разделяющего мир на «правых» и «неправых», на «зло» и «добро» и превращающего взаимодействие субъектов в борьбу «добра» со «злом».
По сути, я только что воспроизвел и пафос «культурной» социокультурной архитектуры (которая разделяет мир на «правых» и «неправых») и «посткультурно-интеркультурной» архитектуры, которая ищет «посткультурные», «общечеловеческие» ценности и жизненные формы.
Если понимать, что поиск «посткультурности» должен производиться через общее «приземление» мышления, через переход от глобальности к локальности, то «посткультурная» стратегия является в широком смысле «позитивистской» стратегией. Она призывает прекратить войну высших принципов и искать компромиссные жизненные формы на основе единой для всех реальности, которой оказывается земная, материально-предметная реальность. Общими для всех культурностей оказываются ценности земного-конкретного, «пост-глобального» существования. С другой стороны, такой «пост-глобальный» мир всегда может стать новым вызовом, вызовом «приземления» и «измельчания» смысла человеческого существования. В качестве ответа на этот вызов может утверждаться «новое глобальное», «новое метафизическое» мышление. Это мышление будет готово вернуться к войне материализованных метафизических проектов, к войне «культур».
Во-вторых.
Следующим следует выделить тот тип трансдисциплинарности, в котором в качестве «дисциплин» выступают собственно научные дисциплины. Назовем этот тип «интернаучным».
Следует сразу сказать, что «интернаучный» тип является продуктом «посткультурной» революции модерна. В представлении о научной рациональности задано движение к истине по ту сторону множества единичных и коллективных субъектов. Декартовский шаг конституирования науки можно рассматривать как шаг к «посткультурности». Сначала надо отсеять все привычные истины, которые являются продуктом тех или иных субъектов. Нужно прийти к состоянию сознания как «чистой доски». Далее нужно наполнить это сознание теми истинами, которые действительно претендуют на статус общезначимых. При последовательном проведении этих шагов в разных аспектах реальности в итоге должно получиться то, что можно назвать новоевропейской наукой. Нетрудно понять, что такой метод конституирует «посткультурный», «общечеловеческий» тип истин. Это тем более будет таким, если науки будут относиться к природной, а не человеческой реальности. Такое понимание науки делает ее саму продуктом трансдисциплинарной работы. Если мы берет «интеркультурный» тип трансдисциплинарной ситуации, то конституирование науки в логике перехода от «культурной» архитектуры к «посткультурно-интеркультурной» будет продуктом трансдисциплинарной работы. Он будет порождать ту теорию-практику, у которой нет места внутри какой-либо отдельной культуры. Она будет иметь «посткультурный» (или «транскультурный») характер. Любые предпосылки науки, которые можно извлечь из до-модерновых культур, будут не более чем трансдисциплинарными приближениями к науке модерна. Можно говорить о том, что все такие приближения выполнялись в трансдисциплинарной интенции, а модерн выявил и выразил эту интенцию максимально прямым образом.
Итак, в целом наука является трансдисциплинарным предприятием. Она могла выполнять функцию трансдисциплинарной («посткультурной», «общечеловеческой») инстанции, когда эту инстанцию хотели найти. Особенно четко эту роль выполняла наука, направленная на природу. Естествознание было максимально трансдисциплинарным предприятием. Но у науки выявилась тенденция на дисциплинарное разделение, которое может интерпретироваться как следствие разделения самой реальности на множество несводимых друг к другу аспектов.
Если теперь мы посмотрим на трансдисциплинарные проекции науки, то увидим, что научные дисциплины не могут конфликтовать друг с другом так, как конфликтуют культурно-мировоззренческие проекты в рамках «интеркультурной» трансдисциплинарности. Во-первых, научные дисциплины сами по себе могут выступать в роли «посткультурных» агентов. «Культурные» конфликты можно решать через приведение проблематики к научной форме (разумеется, настолько, насколько это возможно). Во-вторых, научные дисциплины соотносятся как разные ракурсы и разные размерности единой реальности. По большому счету, всегда соотношение между этими дисциплинами можно привести к соотношению уровней организации и фундаментальных ракурсов единой системы. То есть, магистральный путь интеграции научного знания всегда можно рассматривать как собирание частей в целое. В этом принципиальное отличие «интернаучной» трансдисциплинарной ситуации от «интеркультурной». В последней интеграция культурных систем всегда выглядит как попытка найти стратегию объединения, альтернативную той, которая создается логикой «разбегания культур».
Если теперь снова посмотреть на то, как Автор задает трансдисциплинарный контекст, то он будет скорее похож на «интеркультурный», чем на «интернаучный». Все участвующие в этом процессе «дисциплины» выступают скорее как «культурные» субъекты, обладающие своей интерпретационной перспективой по отношению к «казусам». Все участвующие должны совершить внутри себя определенную «посткультурную» революцию и осознать границы своих «культурных» принципов. Они должны войти в ситуацию как участники «диалога культур», осознающие, что конструктивной будет та версия их поведения, которая создаст пространство диалога как «интеркультурное» пространство, в котором надо сознательно добиваться увеличения меры «посткультурности».
5. Трансдисциплинарная ситуация «единое – многое» и социокультурная логика модерна
Автор переходит к обсуждению «тем трансдисциплинарности».
«Парадоксальная игра экзистенциального настроения современного типа навязывает философии и науке повтор целой серии традиционных тем (понимаемых нами как парадоксы): могущества и уязвимости человеческого разума, свободы и детерминированности, части и целого, редукционизма и холизма, преформизма и эпигенеза, креационизма и градуализма, индивидуального и социального, естественного и искусственного и др. Эти темы (парадоксы) являются завязками сюжетов множащихся биоэтических коллизий»14.
Первой темой становится «единое и многое».
«Метафизическим основанием технологического освоения мира была установка на теоретическое схватывание некоторого предсуществующего в Боге, природе, разуме или трансцендентальных условиях научного опыта единства. <…> Однако сегодня в определенном смысле опасность опознается в самом желании «единственного» единства, единственного основания. Теперь идет поиск оснований для оправдания самой «раздробленности», обоснования, по выражению Е. А. Сидоренко, объективности плюрализма, множественной природы разума. <…>
Онтологическим основанием научных и философских подходов, пытающихся осмыслить множественность возможных единств, выступает парадоксальная идея «детерминированного хаоса», сдвигающая акцент с вопроса о бытии на вопрос о становлении как стихии, порождающей возможные онтологические и логические варианты порядка… <…>
Однако, если ни в боге, ни в разуме, ни в природе мы не предполагаем некоторого «вечного закона» или принципа единства, на что можно надеяться, сталкиваясь с острейшими экзистенциальными проблемами? Как возможно общение без обобщения? Как возможно осмыслить не только единство многообразного (в этом хорошо разбирается диалектика), но и многообразие возможных единств? Казус биоэтики интересен тем, что содержит полезную подсказку – стихийно найденное жизненно-практическое решение. <…> Ответ формируется в контексте совместного коммуникативного трансдисциплинарного усилия – обсуждения. При этом врач не перестает быть врачом, богослов – богословом, а философ – философом. Их экспертные позиции (определения в категориях всеобщего) возникают в ответ на экзистенциальные апории, разрывающие наивную общезначимость обыденных представлений о жизни, смерти и человеке как таковом. Они насущно необходимы для разумного ответа на выявленные проблемы, но недостаточны. Достаточными их делает совместное трансдисциплинарное усилие по достижению через процедуры публичного обсуждения общезначимой по договоренности оценки развертывающихся событий»15.
Проанализируем сказанное.
В том, как Автор тематизирует переход к «объективности плюрализма, множественной природе разума» видно отсутствие культурно-исторической рефлексии. Все, что Автор говорит об этом, сводится к противопоставлению «классическому» пониманию разума современного «постнеклассического». Опорной точкой в этом служит утверждение о связи между «классическим» разумом и современной техногенной цивилизацией. Но для того, чтобы задать логику техногенной цивилизации, достаточно указать на смену социокультурных направленностей при переходе от средневековья к модерну. Я уже говорил о том, что этот переход можно рассматривать в двух фундаментальных аспектах: как переход от «культурной» социокультурной архитектуры к «посткультурно-интеркультурной» и как переход от «закрытого» общества-универсума к «открытому». При таком переходе утверждается позитивно понимаемый «человек активный», а его активность перенаправляется на земную реальность. До этого я не акцентировал, что культура средневековья была культурой «мостов к трансцендентному», она была направлена на сверхземное. Земному оставалась малая и второстепенная роль. Именно поэтому в средневековой культуре не могло быть науки-техники в модерновом смысле. Последняя является продуктом перенаправления человеческой активности на социальное и земное.
Если принять логику сказанного, то должно быть очевидно, что сама по себе направленность на технологическое изменение реальности не несет никакого определённого типа разума. Тип разума логично связать с типом социокультурной архитектуры. К средневековью («культурной» и «закрытой» социокультурной архитектуре) можно отнести представление о «классическом» разуме. К модерновой («посткультурно-интеркультурной» и «открытой» архитектуре) можно отнести представление о «неклассическом-постнеклассическом» разуме. Развертывание модерна можно рассматривать как трансформацию «классического» представления о разуме в направлении «неклассики» и «постнеклассики».
При этом я делаю акцент на том, что на представления о разуме прежде всего влияли социально-культурные контексты. Человек должен был получить вызов негатива «культурной» и «закрытой» социокультурной архитектуры от непосредственно социальной и культурной реальности, и только потом он универсализировал эти ответы в представлениях о типах рациональности. Представление об «открытом» универсуме должно было стать универсализацией представления об «открытом» обществе.
В том, как Автор описывает трансдисциплинарную ситуацию современности, видно присутствие «посткультурно-интеркультурной» и «открытой» архитектуры. Социокультурное пространство уже задано как то, в котором нет установленной социальной системой «сверху-вниз» мировоззренческой программы, того самого, что можно было бы распознать как «единую истину». Автор описывает современное общество как принципиально «интеркультурное». Но это достижение не абстрактного «философского процесса» или процесса эволюции разума. Это достижения процесса построения определенной социокультурной архитектуры.
Здесь можно ввести еще одно понятие, которое помогло бы лучше понять смысл этой архитектуры. Это представление об «идеологическом» и «пост-идеологическом» обществах. Средневековую миросистему можно определить как «идеологическое» общество. Там была установленная сверху-вниз система предельных представлений о мире (идеология) и институциональный контроль над сознанием. Негативом такой архитектуры можно считать идеологический деспотизм (по размерности «система – индивид») и борьбу материализованных идеологий (по размерности «система – система»). Если этот негатив представить как исторический вызов, то движение ответа (структурное отрицание взывающей ситуации) должно было направлять к утверждению «пост-идеологического» общества. В таком обществе нет установленного «сверху-вниз» единого представления о мире, которое утверждалось бы институциональными средствами. В таком обществе устанавливается мировоззренческий плюрализм. Единственной идеологемой здесь может считаться представление о коммуникативном характере отношений субъектов общества друг к другу. Все выяснения относительно истин проходят через диалог, уважение к позиции другого и стремление построить вместе с ним «общечеловеческую» реальность.
Итак, можно утверждать, что современную трансдисциплинарную ситуацию, которую описывает Автор, можно считать переходом от «идеологической» архитектуры к «пост-идеологической». При этом развёртывание модерна следует считать переходом, при котором происходили и «пост-идеологические» революции, и утверждались «новые идеологические» общества. Последние становились обновленными вызовами «идеологичности», «культурности» и «закрытости». Самыми яркими проявлениями это следует считать первую половину ХХ века, когда сформировались те общества, которые принято называть «тоталитарными». Несмотря на то, что такие общества в своем содержании реализовывали многочисленные модерновые достижения, они заново продемонстрировали (причем в крайней форме) и логику «закрытости», и логику «идеологичности». Они утверждали единую для всех членов общества истину. Максимальное отрицание этого типа общества и истины создало ту эпоху, которая называется постмодерном. Это уже тотальное в своем пафосе отрицание и «закрытости», и «культурности», и «идеологичности». Конкретное выражение этого можно видеть в современных развитых, «постмодернистских» демократиях.
Совершенно логично, что представление о разуме, которое утверждается идеологами такого общества, является «трансдисциплинарным» и основано на плюрализме, диалоге и умеренности истинностных претензий. И это следует считать не результатом абстрактной эволюции представлений о разуме, а результатом социокультурной эволюции. «Трансдисциплинарная» ситуация в этом случае не является тем, что стихийно складывается. Она является результатом направленной социокультурной работы. «Трансдисциплинарность» утверждается в качестве императива, того состояния, к которому следует стремиться.
Но у этого императива можно видеть границы. Они задаются характером проблематики. В качестве «трансдисциплинарных казусов» могут выступать только те проблемы, которые не являются ключевыми и конституирующими мировоззренческие стратегии. Вопрос о существовании бога, например, никогда не сможет выступить в роли «казуса», так как относительно его решения создаются те самые мировоззренческие стратегии, которые как-то должны примириться относительно «казусных» проблем. «Казусы» должны быть достаточно общечеловеческими, «непредельными» проблемами. Если «предельные» проблемы создают мировоззренческие ориентации, то «казусы» (чтобы играть объединяющую роль) должны быть достаточно удалены от предельных значений и в то же время достаточно предельны (чтобы становиться предметом тематизации с разных сторон).
Хочу подчеркнуть, что в разговоре о трансдисциплинарных ситуациях следует говорить не об «общем настроении», а об общих, общечеловеческих проблемах. Если многочисленные субъекты сконцентрированы на предельных проблемах, то в центре их внимания будут находиться и предельные решения, те самые решения, которые создают противоположно направленные движения поиска истин. Условие трансдисциплинарности является условием актуализации группы общечеловеческих проблем. Если такие проблемы станут перво-приоритетными, если субъекты будут едины в том, что надо совместно решать именно эти проблемы, то трансдисциплинарность и «казусность» состоятся. Если произойдет (по какой-то причине) расхождение, если в приоритете окажутся предельные проблемы, то ситуация выйдет на новый уровень борьбы «дисциплин», что в проекции на социокультурное пространство будет означать войну «культур».
6. Трансдисциплинарная ситуация «софистика vs философия» и социокультурная логика европейской культурной зоны
Автор переходит к следующей теме трансдисциплинарности: софистика vs философия.
Автор критически относится к утверждению о том, что в современности софистика победила философию и что нужно вернуться к победе философии.
«Мы согласны с актуальностью таким образом поставленной темы, но считаем непродуктивным использовать язык побед и поражений. Возвращение софистики, ее реабилитация – это не отказ от «предметности» и «объективности», а желание найти средства осмыслить их становящийся (исчезающий и возникающий) характер. Апробация «предметности» и «объективности» проходит на публичном форуме всех заинтересованных участников, на котором в то же время отрабатываются способы и способности формировать свое собственное мнение. Это не результат неуважения к истине, а обнаружение ее «человекомерного» характера. Истина обнаруживает свою «человекомерность», как уже было отмечено выше, в ситуациях кризиса, сбоя установленных норм, неписанных правил, когда чужое выставляет свое присутствие через сопротивление.
За объективизмом стоит желание разума встать на точку зрения Бога. Выражая традицию философии, Р. Рорти, цитируя Б. Рассела, писал: «Свободный интеллект взирает на мир так, как мог бы взирать Бог: без всякого «здесь и сейчас», без упования и страхов… спокойно, бесстрастно, движимый лишь стремлением к знанию – знанию настолько безличному, настолько чисто умозрительному, насколько это вообще достижимо для человека». Но дело как раз в том, что таких точек зрения может быть бесконечно много. Поэтому и появляется особая нужда в человеке, его частной перспективе (здесь и сейчас), введение которой необходимо для осмысления единства многообразного через связанное удержание в опыте многообразия виртуально наличных единств»16.

