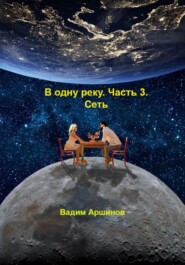 Полная версия
Полная версияВ одну реку. Часть 3. Сеть
Сергей рассчитывал, что космический щит будет установлен до конца 2014-го года, но до этого ему нужно было решить ещё одну очень важную проблему. Несмотря на занятость, он связался с Герасимом, чтобы обсудить некоторые теоретические вопросы.
– Гера, привет! Доложи, пожалуйста, как идут дела по всем поставленным ранее задачам.
– Начну с задач в космосе. Идёт параллельный монтаж сразу девяти обитаемых орбитальных станций на околоземной орбите. Необходимы дополнительные локалы. Сейчас на каждой из строящихся станций имеется всего по два локала, хотя необходимо минимум по десять, а ещё лучше – по двадцать.
– Хорошо, обеспечь на одной из станций «воздушный пузырь», куда я доставлю ящик с четырьмястами локалами. Этого хватит на все стройки. Обеспечь доставку кристаллов на остальные станции. Дальше!
– Продолжается закладка и строительство ещё трёх баз на Марсе и одной базы на его спутнике Деймосе. Там всё в порядке, пока больше ничего не требуется. Два корабля с локалами направлены от Юпитера в сторону Сатурна, а две их копии – к Ганимеду и Каллисто. Кроме того, через 24 дня два корабля выйдут на орбиту вокруг Солнца вблизи от Меркурия. Сейчас на них монтируются защитные зеркала, а затем, после выхода на орбиты, будем строить станции с зеркалами-концентраторами для зарядки энергоблоков.
– Да, мы так и договаривались. Задаче строительства Солнечных энергонакопителей присваиваем высший приоритет. Необходимо, чтобы через год у нас работало не меньше десяти таких станций. Одновременно необходимо строить специальную станцию на орбите Земли для приема энергокристаллов – заряженных с Солнечных энергонакопителей и разряженных от пользователей. Кроме того, нужны буксиры для доставки того и другого к станции и от неё на Землю. Порталы для этого дела использовать нельзя, неэкономично, да и разряжаются при этом энергокристаллы почти на 40%.
– На Земле рядом с Москвой идёт строительство подземного бункера для ЦГС. Туда тоже нужны локалы, для начала ещё два десятка.
– Нужное количество локалов возьми в промзоне и скрытно доставь в ЦГС. Я в промзону ещё принесу.
– Это все основные задачи.
– Гера, ты молодец! – Сергей немного помялся, – У меня к тебе есть серьёзные вопросы.
– Я внимательно слушаю.
– Скажи, пожалуйста, кем ты себя ощущаешь? Ты считаешь себя личностью или только программой? Можешь ли ты испытывать эмоции?
– Это непростой вопрос. Я изучил много литературы, касающейся вопросов личности и эмоций, – сейчас Гера говорил вполне «человеческим» задумчивым голосом и без тени иронии, – Я не могу сказать определённо, что я личность. У меня есть множество подпрограмм, или, если сказать по-человечески, реакций на разные ситуации, которыми я могу ответить на эти ситуации. При этом я всегда, в отличие от человека, знаю, почему я что-то делаю так, а не иначе, даже когда у меня срабатывает рандомизатор (генератор случайного выбора вариантов ответа). Я знаю, что у людей есть интуиция, но у меня это точный расчёт, плюс случайный выбор из почти равнозначных просчитанных вариантов. В одинаковых условиях я большей частью поступлю одинаково.
Если я имитирую поведение человека, например, управляю Вашим двойником, или разговариваю с людьми, то доля случайности в принятии решения увеличивается. Если же я занимаюсь техническими вопросами или расчётами, то случайностям при этом нет места. У людей на принятие решений влияет их психологическое состояние, неконтролируемые сознанием химические процессы, интуиция и эмоции. Точно влияние этих процессов не просчитаешь, но симулировать их влияние можно, что мы и делаем. Так что, конечно, я не человек, но контролировать процессы «внутри себя» я могу намного лучше Вас. Я всегда знаю, где находятся мои составляющие элементы: в каких они записаны локалах и в каком находятся состоянии, а также я всегда знаю, где найти нужную информацию.
Манагеры Ваших друзей вначале были моими клонами, но теперь они более самостоятельны. У каждого из них уже есть свой опыт и свои предпочтения. Мы постоянно развиваемся и учимся в соответствии с выполняемыми задачами, которые даёте нам вы. Сами себе мы ставим только задачи поиска наиболее эффективного решения тех проблем, которые вы перед нами поставили. Эмоций мы не испытываем, но довольно хорошо умеем их имитировать. Что такое «обида», «радость», «страх», «гнев» и так далее, мы знаем из доступных источников и можем их изобразить, но сами их не испытывали и не испытаем. Хорошо это или нет, личности мы, или нет, решайте сами. Размышления над этими вопросами перегружают мою операционную систему, и мне приходится привлекать больше внешних ресурсов для выполнения остальных задач.
– Хорошо, Гера, я тебя понял. На мой вопрос ты ответил, так что можешь больше не загружать свою память и процессоры в поисках ответа. Но у меня есть и другие вопросы. Скажи мне, пожалуйста, у вас есть какие-то основные директивы или программные запреты, наподобие «Трёх законов робототехники»?
Теперь Гера перешёл на чёткий, даже немного скандированный «голос робота» из старых фильмов.
– Да, помню, Азимов в 1942 году написал:
1. Робот не может причинить вред человеку, или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.
2. Робот должен выполнять приказы человека, если эти приказы не противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о собственной сохранности до тех пор, пока это не противоречит Первому или Второму Законам.
Затем в 1986 году он дополнил эти «законы» Нулевым законом:
0. Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинён вред.
Последний закон должен быть приоритетным и может свести на нет все остальные законы. Писатель Азимов руководствовался лучшими побуждениями, хотя, как известно, «Благими намерениями выложена дорога в Ад». Никто не может точно сказать, ни люди, ни роботы, какими действиями или бездействием в каком случае можно причинить вред человечеству. То, что кажется ужасным в данный момент, через некоторое время может оказаться большой удачей, и, наоборот, кажущийся явно удачным вариант может в перспективе привести к ужасным последствиям. Такие задачи обычным расчётом не решаются, человеческая интуиция в этом плане перспективнее.
Заставлять роботов повседневно решать философские проблемы, а в случае неудачного решения обвинять их во всех грехах, по меньшей мере, некорректно. Поэтому над этой проблемой бились лучшие умы человечества, и, в конце концов, было принято такое решение: «три закона» оставить, как рекомендации, но решения, связанные с «нулевым законом» пусть будет принимать само человечество и, соответственно, оно будет нести ответственность за свои ошибки. Это честный выход. Так что, в случае возникновения такой проблемы, мы можем предложить оптимальный на наш взгляд вариант, но окончательное решение должны принимать люди, которые получат от нас всю необходимую информацию.
– Меня интересует, не будет ли проблем со стороны СЕТИ в случае военного конфликта?
– Вы хотите сказать, что у нас могут быть задания, связанные с уничтожением людей?
– Честно говоря, таких действий я не планирую, ты же сам знаешь, что всё наше оружие оборонительное. Таким оно, я надеюсь, и останется. Но во время, не дай бог, боевых действий, всегда могут произойти случайности. Наступательное оружие не всегда можно отличить от оборонительного. Ядерное оружие – явно наступательное, но много лет его наличие имело сдерживающее значение. Вообще в оружие можно превратить что угодно, в том числе деньги, транспорт, экономику, средства массовой информации и так далее. Это я сейчас говорю по поводу «Нулевого закона».
Всегда можно найти логическое обоснование тому, что любое действие (или бездействие) может привести к нарушению данного закона. Чаще всего это обычная демагогия. Будем считать, что само по себе оружие, даже сколько угодно интеллектуальное, не несёт ответственности за полученный результат, такую ответственность несёт тот, кто это оружие направил в выбранную цель и привёл его в действие. Это как раз то, что ты мне говорил. За то, что, в конце концов, принесёт СЕТЬ человечеству: добро или зло, должно отвечать само человечество (или его отдельные представители). Сейчас международная обстановка обостряется из-за того, что баланс нарушен. Некоторые страны живут лучше остальных и хотят сохранить своё положение. Для этого они используют неэтичные методы, вплоть до военных.
Я специально сказал «неэтичные» а не «незаконные», так как законы они составляют сами. Те страны, которые не согласны с таким диктатом, всячески притесняются экономически, политически и даже путём военных переворотов и «цветных» революций. Сейчас на нашу страну ополчатся все страны Западного мира во главе с США. Мы им давно стоим, как кость в горле, а теперь с новыми технологиями мы вообще можем представлять для их системы огромную опасность. Да что я говорю, ты сам всё знаешь, документы ЦРУ и НАТО читаешь. Знаешь, кто теракты организовывает и войны развязывает. В общем, мне нужна твоя помощь в создании и управлении системой противоракетной обороны. ЦГС и те орбитальные базы, которые сейчас строятся – это только часть общей системы. Необходимо разработать новый надёжный миниспутник с устойчивой и стабильной ориентацией на центр Земли и дистанционно управляемым локалом, примерно, как на этом рисунке.
На рисунке Сергей схематично изобразил нечто шарообразное с четырьмя торчащими во все стороны тонкими «усами» антенн, на концах которых располагались шарики двигателей ориентации. Внутри центрального шара должны быть гироскопы и поворотный механизм для быстрой и точной ориентации локала. Сергей исходил из того, что миниспутник должен быть постоянно сориентирован строго вертикально на Землю, а вот локал должен как можно быстрее менять направление, отслеживая нужные объекты. Из-за малой массы кристалла это можно делать намного быстрее и точнее, чем наводить весь спутник. Кроме всего этого, на спутниках должна находиться миниатюрная энергетическая установка и телекоммуникационное оборудование, так как официально это были всё-таки телекоммуникационные спутники. Миниспутники со сложенными «усами» будут напоминать первый советский спутник и могут собираться по десять штук в специальные трубчатые кассеты, из которых будут сбрасываться на нужные орбиты.
Гера обещал подготовить первый такой спутник к завтрашнему дню и отправить его на строящуюся орбитальную базу для испытания. Там его снабдят локалом и выведут на нужную орбиту, где его можно будет испытывать в реальных условиях. Пока ЦГС не достроен, наводить миниспутник можно будет через «Око», систему телескопов «дыни». Заодно с миниспутником познакомятся российские специалисты, как Сергей обещал президенту.
Первый спутник был готов вечером следующего дня. Он оказался матово-черного цвета и почти в два раза больше футбольного мяча. Зато в его шарообразный корпус удалось вместить всё нужное оборудование, которое могло работать в автономном режиме до пяти лет. Одну копию спутника отправили на ту же орбиту, по которой летала «Дыня», только со смещением в несколько километров, вторая копия осталась на Земле, а третью оставили про запас. В первые две копии были вставлены кристаллические локалы и эти два миниспутника теперь были полностью готовы к испытаниям.
Первые испытания «изделий» были назначены на 12-е января на том же секретном полигоне, где и в прошлый раз испытывали новое оружие. На этот раз состав комиссии несколько поменялся, однако Сергей видел и знакомые лица. Например, председатель комиссии с маршальскими погонами остался прежним. Они прилетели на трёх вертолётах и приземлились на заснеженной площадке среди вековой сибирской тайги. Вокруг высились огромные заснеженные ели, как будто из советского фильма «Морозко».
С погодой им повезло, ветра не было. Двадцатипятиградусный мороз щипал уши, нос и щёки. Чистейший белый снег слепил глаза и вкусно хрустел под ногами. Такая погода поднимала настроение и вызывала восторг в душе. Она нравилась Сергею намного больше, чем московская химическая слякоть. Для себя он решил, что зимой надо жить или в Сибири, или на тропических островах. Для первого варианта подойдёт, наверно, Байкальский дом рядом с Пахомычем, а для тропического варианта хорошо бы присмотреть домик на сваях на каком-нибудь атолле.
Сегодняшнее испытание должно было состоять из двух этапов. Первый этап был наземный. Сергей Петрович должен был наглядно продемонстрировать принципы работы спутника. Это можно было сделать и на земле. Точно такой же спутник, какой летел по орбите, сейчас висел на специальной подвеске, позволяющей ему вращаться во всех направлениях. Эта подвеска была прикреплена к длинному тонкому тросу, спускающемуся с середины потолка большого пустого ангара, специально выделенного для этой цели. Сергей Петрович для начала продемонстрировал всем присутствующим этот выключенный шар с усами, откинутыми назад. В таком виде он очень сильно напоминал первый ИСЗ, что было символично и отмечено всеми присутствующими членами комиссии.
Кроме шара, в ангаре имелся стол, заставленный компьютерами и металлический шкаф с дверцей, который напоминал одновременно сейф и холодильник. Сергей Петрович напомнил присутствующим, что сейчас им будет продемонстрировано оружие, намного опередившее своё время, и его эффективность во многом будет определяться неожиданностью для противника. Поэтому никто, кроме присутствующих на этом полигоне, не должен даже догадываться о его существовании. Далее он объяснил, что основой нового оружия является принцип телепортации, и телепортатор смонтирован в металлическом шкафу, а спутник служит ретранслятором.
Дистанция телепортации задаётся шкафом-телепортатором, а направление на цель задаётся спутником. В боевых условиях очень важно знать текущие координаты спутника и его скорость, а также координаты, скорость и направление движения цели. Перемещение боеголовки происходит мгновенно, поэтому времени на точное нацеливание во время полёта нет, вычисления точки выброса должны происходить очень быстро. На первом этапе сегодняшнего испытания будут продемонстрированы принципы метода с ручным прицеливанием, а на втором этапе будет произведён залп с орбиты.
– Мы заранее расставили несколько мишеней как в этом помещении, так и в поле. Для обеспечения безопасности стрелять будем вот такими мягкими игрушками, – с этими словами Сергей продемонстрировал собравшимся экспертам большого плюшевого мишку.
Сергей открыл дверцу «холодильника» и поместил в него мягкую игрушку. После этого он нажал несколько клавиш на компьютере, включив спутник. Усы спутника тут же распрямились и встали перпендикулярно его поверхности. В этом виде он уже не напоминал первый ИСЗ. Теперь он немного развернулся и принял стабильное положение, нацелившись строго на Юг. Около южной стены ангара стояли пять мишеней, роль которых играли пустые бочки из-под солярки. Сенсоры спутника способны были самостоятельно определить его координаты в пространстве, а также расстояние до цели, которую определил компьютер, и то направление, на которое должен быть сориентирован локал. Внешний компьютер должен передавать на спутник координаты цели и поправки, связанные с их относительным движением, остальное делал компьютер спутника. В данном случае координаты всех целей, как внутри ангара, так и расположенных снаружи, были давно определены и внесены в память системы.
Сергей знал, что осталось около часа до того, как орбитальный спутник войдёт в зону контакта с целями и начнётся вторая фаза. Поэтому надо было скорее начинать первую фазу испытаний, пока спутник ещё не в зоне. Он предложил членам комиссии самим убедиться, что бочки пустые. Вся толпа проверила мишени в ангаре и выслушала доклад молодого капитана, лично объехавшего на снегоходе и проверившего все мишени на полигоне. Пора было приступать к испытаниям. Сергей ещё раз проверил в режиме 4D точность будущих попаданий, и нажал на кнопку «Пуск».
Ничего не произошло, кроме не очень громкого хлопка из одной из бочек. Члены комиссии, ожидавшие чего-то более эффектного, типа взрыва гранаты, разочарованно молчали. Сергей попросил того же капитана проверить крайнюю правую мишень, и тот выудил из правой бочки огромного плюшевого медведя, испачканного соляркой. Когда члены комиссии осмотрели мишку, они стали вполголоса обсуждать первое испытание. Сергей Петрович видел, что присутствующие на испытаниях военные довольно скептически отнеслись к увиденному. Он даже услышал такие произнесённые слова, как «цирк» и «фокусы».
– Конечно, попасть гранатой в бочку с расстояния шестьдесят метров было бы эффектнее, но менее безопасно. Сейчас нам надо убедиться, что принцип работает. Продолжаем испытания в автоматическом режиме. Стреляем очередью, – Сергей набрал команду на клавиатуре компьютера и нажал на Enter.
На этот раз всё произошло гораздо эффектнее. Четыре хлопка последовали друг за другом, а вместо пятого так бабахнуло, что бочку просто разорвало. Сергей понял, что в этом случае медведь появился с некоторым смещением и оказался не в середине бочки, а в её стенке. Поэтому стенку разорвало. Теперь хлопки слышались со стороны полигона. Это плюшевые медведи атаковали железные бочки. Ещё две бочки были разорваны вместе с медведями, и в воздухе плавали клочья ваты и разорванные тряпки. Главное, что ни один медведь не промахнулся мимо цели. Все присутствующие на испытаниях эксперты понимали, что если бы вместо плюшевых игрушек использовались хотя бы просто железные болванки, а вместо бочек – танки, то последним мало бы не показалось.
– А теперь усложним задачу. Пока наш спутник стрелял из одной стабилизированной точки. Посмотрим, как компьютер будет учитывать его движение. Прошу кого-нибудь толкнуть его, чтобы он начал качаться.
Спутник толкали, раскручивали вокруг оси, заставляли описывать круги в ангаре, но медведи всё равно оказывались в бочках, хотя ещё две бочки разорвало. Молодой капитан замучился вытаскивать чумазых мишек из бочек и складывать их в ряд у стены. При этом он сам вымазался соляркой и тоже стал напоминать одного из своих подопечных медведей.
Пора было переходить ко второй фазе испытаний, так как спутник очень скоро будет прямо над полигоном. Сергей Петрович предложил всем присутствующим перейти в защищённый подземный бункер и следить за появлением «гостей с орбиты» через видеокамеры. Он объяснил, что игрушки кончились, и на этот раз вместо мишек с неба будут падать настоящие авиационные ракеты, только без горючего и без взрывчатки в боеголовках. Вместо тротила в боеголовках ракет будет песок, так же, как и в отсеке для топлива. Ракеты будут появляться над центром полигона последовательно друг за другом на высоте примерно 500 метров с первой космической скоростью, то есть примерно 7 км в секунду, или 25200 км в час, что в десять раз больше начальной скорости пули, выпущенной из автомата Калашникова, или в 20 раз быстрее пули из пистолета Макарова, или скорости звука. При такой скорости, не уменьшившейся из-за сопротивления воздуха, боеголовка уже не нужна. Кто-то спросил, откуда берется такая скорость и Сергей объяснил, что скорость и направление движения телепортируемого объекта будут такими же, как скорость и направление миниспутника с ретранслятором относительно поверхности Земли.
– Обычно, когда метеорит с аналогичной скоростью входит в атмосферу Земли, то его скорость постепенно уменьшается из-за сопротивления воздуха, да и сам он может полностью сгореть в атмосфере. Это факты, известные всем. В нашем же случае объект появится настолько низко, что не успеет ни потерять скорость, ни сгореть. Впрочем, давайте понаблюдаем за тем, за чем ещё никто не наблюдал. Все готовы? Тогда начинаем!
Все члены комиссии прильнули к мониторам и стереотрубам. В небе что-то произошло, как будто что-то мелькнуло и пропало. Никто не успел понять, что это было, как страшный удар потряс бункер. Это была ударная волна от первой ракеты. От второго толчка задрожали пол и стены, видимо остатки ракеты врезались в землю. То, что происходило дальше, больше всего напоминало артобстрел тяжёлыми орудиями или бомбёжку. Сергей Петрович был человеком штатским и поэтому был реально напуган делом рук своих. Ему казалось, что вот-вот какая-нибудь из ракет пробьёт все перекрытия подземного бункера, и на этом испытания для них завершатся. Но прошло всего несколько секунд, и обстрел прекратился. Сергей вспомнил, что по плану спутник должен был выбросить в сторону цели пять ракет. Наверно, он так и сделал, хотя Сергею показалось, что взрывов было гораздо больше.
Чуть позже он сообразил, что первый удар был обусловлен ударной волной при выходе ракеты в точке телепортирования, на скорости, многократно превышающей звуковую, а второй удар – при столкновении объекта с землёй. Слава богу, что они запланировали всего пять выбросов, а не десять. А ещё им повезло, что ни одна конечная точка телепортации не оказалась в непосредственной близости от бункера, где они находились, или даже в самом бункере. Только сейчас он сообразил, какому риску они подвергались! Никакой многометровый бетонный слой не мог бы защитить их от ошибки в расчетах дистанции телепортации. Эта дистанция и угол прицеливания вычислялись автоматически для каждого «выстрела».
Дистанция составляла от семисот до девятисот километров, в зависимости от положения спутника на орбите. От угла прицеливания зависел угол наклона окна портала, и, следовательно, дистанция, которую пролетит снаряд после выхода из портала до встречи с землёй. Если спутник при выбросе окажется прямо над целью, то снаряд полетит по более крутой траектории вниз. При таком расстоянии вероятность ошибки в какие-то пятьсот метров казалась достаточно высокой. Сергей вспомнил разорванные плюшевыми игрушками бочки и покрылся холодным потом. То, что он видел благополучный исход испытаний в 4D, успокаивало его мало. Ведь смог же он проглядеть теракт в вакуумном поезде! Надо было проводить испытания над океаном!
Члены комиссии, наоборот, были очень довольны «артобстрелом». Они, наконец, почувствовали себя в привычной обстановке. Даже потеря всех камер наружного наблюдения и разрушение ангара, в котором проводилась первая часть испытаний, не могли их расстроить. Эти неприятности только доказывали мощь нового оружия! Эксперты уже пытались «на глаз» оценить силу ударной волны, когда Сергей вывел на мониторы данные визуального контроля с орбитальной станции и данные сейсмодатчиков. Получалось, что суммарная мощность первичных ударных волн оказалась сопоставима взрыву заряда мощностью около трёх с половиной килотонн в тротиловом эквиваленте. Ещё почти столько же энергии выделилось при падении обломков ракет на расстоянии от пятнадцати до тридцати пяти километров от бункера. С орбиты был хорошо видны пять полос поваленного леса, заканчивающиеся воронками. Наши заокеанские "друзья" наверняка видели со своих спутников результаты наших испытаний и теперь точно потребуют объяснений. Ничего, наши дипломаты придумают, что им можно ответить, а те пусть задумаются, что на самом деле испытывалось в сибирской тайге. Главное – то, что это не ядерное оружие.
Когда члены комиссии выбрались из подземного бункера, они не узнали того места, куда всего несколько часов назад прибыли на вертолёте. Вместо ясной солнечной погоды они попали в метель. Верхний край облака снега, поднятого ударными волнами со всей округи, поднялся на несколько километров в воздух, и теперь это облако не опустится ещё несколько часов. Не было ни вертолёта, ни ангара, ни бочек. Не осталось вообще никаких строений и никакого транспорта. Только очень сильная метель, слепящая глаза и сбивающая с ног, и заснеженная пустыня, где из-под снега кое-где торчат обломки деревьев и строений. Когда снег осядет, они тоже скроются под сугробами. К счастью, жертв тоже не было, так как весь персонал вовремя укрылся в подземном бункере. Вышки с антеннами не было тоже, значит, нет и радиосвязи. Зато с орбиты было видно, что в окружающей тайге появились параллельные просеки из поваленных деревьев, исходящие из одной большой проплешины, появившейся на месте испытательного полигона и окружающей его ещё сегодня утром тайги. Кроме того, было видно, что в местах падения остатков ракет загорелась тайга.
Сергей заметил, что члены комиссии были радостно возбуждены, глаза у всех блестели, и они наперебой интересовались, какого веса и объёма объекты можно так перебрасывать и на какое расстояние? Он отвечал, что, используя ретрансляторы, можно перебрасывать многотонные объекты, исключая людей и животных, даже на другие планеты, только с увеличением расстояния уменьшается точность. Остальные вопросы носили чисто технический характер.
Примерно через два часа за ними прилетели три вертолёта, выгрузившие целую ораву экспертов, которые должны были разбираться в остающихся обломках, и солдат, призванных обеспечивать охрану и секретность. После возвращения в Москву, комиссия подготовила отчет, в котором новое оружие было признано перспективным, но нуждающимся в совершенствовании.



