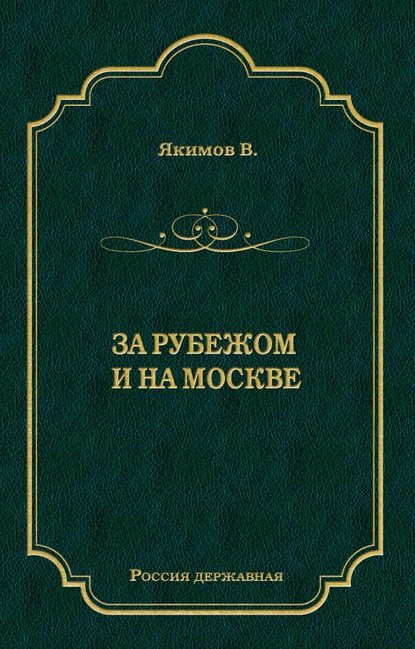 Полная версия
Полная версияЗа рубежом и на Москве
– А скажи, как ты будешь лечить лихорадки? – опять сказал Гаден.
Аглин заметил уже, что последний почему-то невзлюбил его, но не подал виду и продолжал спокойно отвечать на вопросы:
– Лихорадки излечиваются разжижением крови, умерением кислого брожения и потением. Для сего необходимо, буде больной полнокровен, небольшие кровопускания делать, а потом давать слабительные. При злокачественных лихорадках, кои от щелочного перерождения зависят, нужны кислоты, соли земель, глина, бальзамические вещества и опиум.
– Отлично, – сказали все.
Затем стали задавать вопросы аптекари о действии различных лекарственных веществ. Аглин отвечал также уверенно.
Наконец Розенбург стал о чем-то тихонько совещаться с коллегами. Те в ответ утвердительно кивнули головами, и только один Гаден будто бы запротестовал, но напрасно.
Розенбург после этого сказал:
– Больше мы у тебя не спрашиваем: отвечал ты обо всем так, как и сами мы знаем. Дай тебе Бог, чтобы люди от твоего лечения выздоравливали и тебе бы от государя честь получить! – И, обратившись к Матвееву, «собинный дохтур» сказал: – Боярин, мы обо всем спрашивали доктора Романа, и, по нашему разумению, он свое дело хорошо знает и может с пользой лечить людей.
– Ну и ладно, – ответил Матвеев. – Коли знает он свое дело хорошо, так и возьмем его на царскую службу. А теперь, Петр, прочти-ка подкрестную запись – присягу.
Дьяк Виниус стал читать по свитку:
– «Подкрестная запись на верность службы царю Алексию Михайловичу. Целую крест государю своему, что лиха мне государю своему и семейству не хотети ни в чем, никакого не мысляти, не думати делати, ни которыми делы, ни которою хитростью по сему крестному целованию…»
Матвеев приказал Аглину подписаться под подкрестной записью – и новый доктор был принят на московскую службу.
Все экзаменующие обступили нового товарища и поздравили его. Поздравил Аглина и Матвеев и пригласил его к себе в следующее воскресенье на пирог.
Аглин радостный вернулся домой и, обнимая трепетавшую от радости жену, сказал:
– Ну, река перейдена, и отступать поздно. Теперь либо пан, либо пропал.
XV
Боярин Матвеев в точности исполнил приказание царя: он стал спрашивать всех докторов относительно того, каким бы образом надлежало лечить «некоемого знаемого человека», у которого имеются такие-то и такие-то признаки болезни.
И Розенбург, и Гаден, и Блюментрост, и Коллинс, и Энгельгардт, и Аглин в один голос объявили, что тут, по всей вероятности, имеется несварение желудка. Когда Матвеев сообщил об этом царю, тот сказал:
– Ну, ин ладно, зови к нам теперь всех дохтуров. Я им сам все расскажу, что со мною такое есть.
В назначенный день все доктора собрались в рабочей комнате царя, который был окружен несколькими приближенными боярами.
– Созвал вас я, господа дохтура, – сказал царь, сидя в кресле, стоявшим перед ним полукругом докторам, – ради нашей великой болезни. Требуется помочь моему здоровью блага ради нашего государства. Наперво скажите мне правду: все ли вы между собою согласны и нет ли меж вами какой-либо вражды, зависти или другого непорядка?
Доктора переглянулись между собою: вопрос был щекотливый. Все они втайне завидовали друг другу, и если не враждовали между собою открыто, то лишь потому, что это могло дойти до царя и навлечь от него на них его царский гнев и опалу, если еще того не хуже. Поэтому им следовало быть осторожными, и этим молчаливым взглядом они согласились между собою.
– Государь, – ответил Розенбург, – мы все – твои слуги, едим по твоей великой царской милости твой хлеб и того ради, если бы между нами и была какая зависть и вражда, то пред твоим светлым ликом она должна смолкнуть и надлежит нам всем пещись о твоем царском здоровье, не только отложив в сторону всякую вражду, но и даже не щадя живота своего до последней капли крови.
Тишайшему понравились эти слова. Он благосклонно взглянул на Розенбурга и произнес:
– Это ты ладно толкуешь, дохтур Яган. Вижу я, что ты к нашей царской службе привержен. Думаю, что и остальные господа дохтура с тобой в мыслях единомышленны. Так слушайте же про нашу царскую болезнь.
Припадки у Тишайшего, происходившие от тучности и от несварения желудка, бывали довольно часто. И на этот раз, когда Аглин впервые был на Верху и впервые видел царя, был точно такой же припадок.
Государь перечислил все симптомы своей болезни и вопросительно сказал:
– Ну, вот и вся моя болезнь. Растолкуйте мне, что сие значит и выздоровлю ли я?
Все доктора задумались, за исключением Аглина. Он со вниманием посмотрел на своих коллег, стоявших с серьезными лицами, и чуть было не расхохотался: ему, еще недавно слушавшему лекции знаменитых профессоров на Западе, стало ясно, что эти люди, не обновлявшие своих знаний, совершенно отстали от науки и жили только тем, что привезли с собою при приезде в Москву.
– Государь, – сказал Розенбург, – мы все твою болезнь знаем, ибо боярин Матвеев ее нам в точности рассказал. Мы все здесь, пред тобой стоящие, за исключением одного, – и он показал на Аглина, – уже совещались промежду себя и согласны относительно твоей болезни. По Гиппократову разумению тонких природ, особливо склонны к болезням люди густых и тучных сложений, ибо тучность за недуг принятися может. Здравая тучность естественных и подобающих умерений не переходит и телесами к укреплению взимается. Болезненная же тучность телеса повреждает и сонною тяжестью чувства и движения наполняет. Сего действия суть одышки, тоски, ослабление, тяжесть, главоболение, насморки, удар, водяная болезнь.
Позади Аглина послышался какой-то скрип. Он оглянулся и увидел сидевшего за столом в углу подьячего, низко склонившегося над бумагой и записывавшего в «сказку» мнения и слова докторов. «Сказка» потом скреплялась подписями докторов, отправлялась в Аптекарский приказ и там заносилась в книгу.
Тишайший со вниманием выслушал слова Розенбурга.
– А какое же сему подлежит лечение? – спросил он.
Розенбург пошептался с Блюментростом, и тот, прокашлявшись, сказал:
– Излечение или паче предохранение состоится по умерении едения, во обучении и лекарстве.
– Ну, говори, какое такое будет умерение? – сказал Тишайший. – И так уж мало ем: на ночь одну овсянку, а все что-то не худею.
– Что касается умерения, долженствует быти тонкое, ужин и обед скуднейшие и не вельми нужно, хотя бы и не ужинать, – начал Блюментрост. – Не пользуют на трапезах молочные и жидкие еды. Вредит пиво новое и которое не устоялось; да будет мед светлый и тонкий, не кислый. Свинина повреждает. Пользует мясо говяжье, свежее, если вареное, чтобы без чеснока и соли. Но лучше есть мясо баранье и агнчее. Также здорово есть рябчики, курятки, молодые журавлики, утки дикие, тетеревы…
– Однако, – смеясь, сказал Тишайший, – ты, дохтур Лаврентий, совсем святого из меня хочешь сделать. То нельзя, этого не ешь, третьего не вкушай, совсем с вами с голоду помрешь. Ну а обучение в чем состоит?
На это сказал юркий Гаден:
– Движение по Аристотелю есть вина теплоты. Воды родников и рек текущих здравейшие бывают. Бледнеют же и иссыхают тюремные сидельцы, свободного воздуха и движения лишенные. Необходимо вольное движение, умеренное на конях езжение. Сон полуполуденный умеренный или не един, а ночью опочивать – чтобы не больше семи часов.
– Ну-ну, – потихоньку посмеиваясь и шутливо качая головой, сказал Тишайший. – Насказал же ты, Степан! И не ешь-то, и не спи. Еще чего придумаете? Роспись какую пропишете?
– Надлежит и это сделать, – сказал Розенбург.
– Ну, ладно, просмотрите там вашу сказку и роспись напишите. А я пока в шахматы поиграю. Алегукович, не хочешь ли ты сразиться со мною? – обратился он к князю Черкасскому.
– Осчастливливаешь ты, государь, холопа своего, – кланяясь, сказал последний.
Доктора между тем вышли в соседнюю комнату вместе с Матвеевым и подьячим Аптекарского приказа. Последний прочитал им «сказку», написанную со слов докторов, и те подписали ее, равно как и роспись-рецепт.
Это занятие отняло у них часа два, так как каждый из врачей внимательно прочитывал свою речь, чтобы после не к чему было придраться и через это не попасть в подозрение в желании нанести вред царскому здоровью.
Наконец, когда сказки были составлены, боярин Матвеев заглянул в ту комнату, где был царь. Последний уже закончил свою игру с князем Черкасским.
– Сказка готова, государь, – сказал Матвеев, подходя к царю.
– А ну, чти ее, – произнес царь.
Матвеев прочитал.
– Ну, что же, – сказал затем царь, – то лекарство, составя, приготовить.
Этой формулой клалась санкция на приготовление лекарства для царя.
После этого доктора откланялись царю и вместе с Матвеевым отправились в старую аптеку.
– Зачем же мы в аптеку идем? – по дороге спросил Аглин Коллинса.
– А смотреть за приготовлением царского лекарства. Это не так-то легко.
Действительно, это оказалось не так-то легко, и Аглину пришлось воочию убедиться, какими формальностями обставлено дело приготовления лекарства для царя.
Когда они прибыли в аптеку, то их там уже ждал дьяк Аптекарского приказа Виниус, вызванный Матвеевым.
– Ну, дьяк, отмыкай казенку, – произнес последний.
Все отборные врачебные средства, «пристойные про великого государя», хранились в аптеке в особой комнате, называвшейся особой казенкой. Она находилась всегда за печатью дьяка Аптекарского приказа, и без него никто не имел сюда доступа, не исключая царских докторов и аптекарей. Врачебные средства стояли здесь в запечатанных ящиках и склянках.
Аптекарь, приняв роспись, занес ее в книги аптеки и отдал дьяку, чтобы тот, в свою очередь, занес ее в книги Аптекарского приказа.
Затем приступили к составлению лекарства, что делалось чрезвычайно тщательно, и имена составителей тоже были занесены в книгу.
– Кто понесет лекарство государю? – спросил дьяк, держа в руках склянку с приготовленным лекарством.
– Давай мне, я понесу, – сказал Матвеев, протягивая руку.
– Повремени малость, боярин, надлежит его прежде откушать господам дохтурам. Али забыл, что наказ говорит?
– Верно, верно слово твое, дьяк, – ответил сконфуженный Матвеев и протянул склянку докторам и аптекарям.
Аптекарь принес небольшой серебряный стаканчик, и каждый из врачей, налив туда немного лекарства, выпивал его. Когда проделал это и боярин Матвеев, то склянку запечатали и передали последнему.
Аглин, по примеру прочих докторов попробовавший приготовленное для царя лекарство, спросил тихонько по-немецки Розенбурга:
– Разве это необходимо?
– Обязательно, – так же тихо ответил тот. – Со мной раз был такой случай, когда мне пришлось выпить целую склянку лекарства, приготовленного для царицы, только потому, что оно вызвало тошноту у одной ближней придворной, пробовавшей это лекарство перед поднесением его царице. А теперь вот боярину Матвееву придется пробовать его, прежде чем царь сам будет пить его.
Матвеев, бережно приняв в свои руки лекарство, повез его на Верх.
XVI
Аглин был зачислен на царскую службу. Каждый день он ходил в Аптекарский приказ за получением каких-либо приказаний, а оттуда в которую-нибудь из аптек. Иногда ему давалось поручение лечить кого-нибудь из ближних царских людей; он принимался за это с усердием и лечил со старанием.
В лечении ему везло: чуть ли не все поручаемые его знаниям и искусству больные быстро выздоравливали.
Это стало даже возбуждать косые и недовольные взгляды со стороны других товарищей-врачей, которые с течением времени стали переходить уже в явную зависть.
Особенно невзлюбил его Гаден. Быть может, последний сознавал, что прекрасно образованный врач, учившийся в западных университетах, каким был Аглин, по своим знаниям стоял гораздо выше его, эмпирика, бывшего цирюльника, случайно попавшего ко двору и получившего степень доктора медицины не обычным путем, то есть не по заслугам, а лишь по милости московского царя. Или, быть может, потому, что Аглин, чутьем понявший Гадена, относился к нему сдержанно, не пускался с ним ни в какие откровенные разговоры и на приглашения Гадена прийти к нему в гости ограничивался одними благодарностями. Как бы то ни было, но Гаден вдруг и сам стал сдержан с Аглиным и за спиной того стал даже распускать кое-какие сплетни.
Последние достигли как-то ушей Коллинса, и добродушный англичанин предупредил об этом Аглина и советовал ему быть поосторожнее с Гаденом. Аглин на это только пожал плечами, но поблагодарил Коллинса и обещал следовать его совету.
Однажды Гаден, вернувшись из Аптекарского приказа, только что сел обедать, как к нему пришел неожиданный гость – дьяк Посольского приказа Румянцев.
– Благодарю за честь, дьяк, – сказал, встречая гостя, доктор. – Каким ветром занесло тебя в нашу слободу?
– По делу, дохтур, – ответил дьяк. – Кабы без дела, так кто пошел бы в вашу Немецкую слободу.
– Или болен? Давай тогда полечу. Без ног если будешь, то так выпользую, что хоть через неделю тебя женить можно будет.
– При живой-то жене? Выдумаешь тоже, дохтур! Нет, я по другому делу, особливо важному.
– Ну, коли по другому, так будем говорить. Погоди только малость: я прикажу, чтобы нам сюда меду холодненького подали.
– Это – дело!
Через минуту Гаден и Румянцев уже сидели за стопками меда.
– Ну, говори, дьяк, что за дело, которое тебя из твоего приказа занесло к нам на Кокуй.
Дьяк выпил меду и, обтерев усы, начал:
– Вот видишь ли ты, что это за дело. Были мы со стольником Петром Ивановичем Потемкиным за рубежом в посольстве. Прибыли тогда к французскому королю в город Париз. И был у нас тогда в посольстве некий молодой парень за толмача, по прозванию Яглин Роман. И вот, когда мы выехали из Париза и через одну какую-то реку переходили, у нас этот Яглин вдруг пропал. Стали искать его и нашли на берегу его одежу. Куда парень девался, как ты думаешь, дохтур?
– Ну, конечно, потонул, – ответил Гаден.
– Верно рассудил. Раз одежа на берегу, а человека нигде нет, то, конечно, одно: потонул где-нибудь. Ладно. Ну-с, а вот теперь слухай дальше. Ни много ни мало лет прошло – и приезжает на Москву заморский дохтур, Аглин Роман… Слышишь, Степан?
– Слышу, – весь насторожившись, ответил Гаден, улавливая тут какую-то связь.
– И пришел этот дохтур Роман Аглин к нам в Посольский приказ и принес грамоты свои. Смотрю я это в эти грамоты, вижу, что дохтур этот – французского короля подданный и учился он в разных высоких школах, откуда ему и эти грамоты даны, а пред глазами – ну, вот хоть голову мне отруби, – живой Яглин Ромашка, толмач.
– Так ты думаешь… – в волнении вскричал, вскакивая с места, Гаден.
– Да ничего я не думаю… Да сиди ты, ради бога, и слушай до конца!
Гаден сел, и только по блеску его черных глаз можно было судить о том волнении, которое он переживал в ту минуту.
– Ну, вот как взглянул на этого дохтура, так и обомлел. Кто же предо мною: заморский ли дохтур или Яглин Ромашка, толмач?
– Так ты думаешь, что ваш Яглин и этот доктор – один и тот же человек!
– Да кто ж его знает? Лицо как будто одинаковое; у этого только усы больше и борода длиннее. Да и имя-то, прозвище одинаковое: там Яглин, тут Аглин…
Гаден встал и в волнении заходил по комнате.
– Вот оно что! – говорил он, потирая руки. – Оба – одна и та же персона! Ну и храбрость же: сбежать из посольства неведомо куда, а потом приехать на родину под чужим видом, с чужими бумагами! Впрочем, нет: бумаги у него собственные. Он, должно быть, учился где-нибудь за рубежом в высоких школах; ведь не учившись нельзя так сдать испытания, как он сдал в Аптекарском приказе. Да. А ты верно, дьяк, знаешь, что этот дохтур – тот самый… как, бишь, его?
– Яглин? Говорю, что голову прозакладываю. Положим, я говорил уже об этом с одним нашим подьячим, который тоже в этом посольстве был, да он, пьяница, не признает его.
– Да… да… Так! – И Гаден опять заходил по комнате, как бы что обдумывая. Наконец, вдосталь находившись, он остановился против Румянцева и сказал: – Так как же? А? На свежую воду, что ли, вывести этого Аглина? А?
Дьяк взглянул на него и усмехнулся:
– Что, али поперек дороги встал тебе он?..
– Ну, – ответил, сделав пренебрежительное лицо, Гаден. – Я подольше его в дохтурах-то и не с таким щенком, как этот Аглин, потягаюсь. Со мною и Розенбург часто советуется.
– А Прозоровский-то князь? – усмехаясь, напомнил Румянцев.
Лицо Гадена покраснело от злости, и он закричал:
– Да ты что думаешь, что Прозоровского твой Аглин вылечил? Натура сама вылечила, а ваш Аглин ни при чем.
– Да что-то эта самая натура не приходила на помощь, когда ты князя лечил. А как Аглин взялся лечить его, так она тут как тут со своими услугами, – продолжал посмеиваться Румянцев. – Ну, да ладно. Я к тебе не за этим пришел. Больно мне охота этого самого Ромашку на чистую воду вывести. Я тебе все сказал, а ты раскинь сам своими мозгами, что и как. А теперь, брат, прощай.
Оставшись один, Гаден опять принялся ходить и думать. Его мстительная душа никак не могла примириться с тем, как он думал, оскорблением, которое было ему нанесено Аглиным у князя Прозоровского, и он изыскивал способы, чтобы, пользуясь открытием дьяка Румянцева, отомстить.
Наконец он приказал запрячь лошадь и, одевшись наряднее, отправился в путь, то и дело понукая возницу. И вот его возок остановился у дома боярина Матвеева.
– Али за делом каким? – встретил его последний.
– За делом, боярин, – ответил Гаден.
– Ну, ин ладно, садись – гостем будешь.
– Предупредить я тебя, боярин, приехал, – сказал, садясь, Гаден.
– Ну? – добродушно отозвался Матвеев, в душе недовольный этими словами, так как за ними он чувствовал донос, чего крайне не любил. – Должно быть, ты, дохтур, с изветом пришел?
– Если хочешь, так, пожалуй, и с изветом. Я слов не боюсь.
– Ну, да ладно. Выкладывай свой извет. Посмотрим, в чем дело!
Гаден передал ему все, что рассказал ему Румянцев.
Матвеев молча выслушал и задумался. Наконец он произнес:
– Врет все твой дьяк! Спьяну, должно быть, ему все это приснилось, – ну, вот он и набрехал тебе. А ты поверил да ко мне с изветом на товарища… Нехорошо, дохтур, так поступать! Да ты хоть бы о том подумал: ну, где русскому человеку дохтурскому искусству научиться? Мы хоть и лечимся у вас, а в душе-то ваше дело чуть не поганым считаем. Не думай, что и я так считаю – я про других это говорю. Ну а затем еще то рассуди: одна у этого Аглина на плечах голова или две, чтобы он приехал сюда, на Москву, зная, что его здесь плаха встретит? Нет, брат, несуразное ты говоришь и запомни себе: никаких таких речей я от тебя не слыхивал никогда.
Сконфуженный Гаден ушел.
Матвеев провел несколько часов в раздумье и затем послал челядинца за Аглиным.
– Скажи, что неможется мне, – наказывал он ему. – Хочет, мол, боярин полечиться у тебя.
Аглин не замедлил явиться на зов Матвеева.
– Здравствуй, боярин, – сказал он, здороваясь с последним.
– Здравствуй, толмач царского посольства Роман Яглин, – пристально глядя в лицо молодому доктору, медленно произнес Матвеев.
Аглин побледнел и пошатнулся. Перед его затуманившимся взором пронеслись московский застенок со всеми его ужасами, плаха с расхаживающим около нее палачом, отрубленная голова, прыгающая по ступенькам эшафота, кровь, брызжущая фонтаном из отрубленной шеи. Он почувствовал слабость в ногах и сел на близ стоящую мягкую скамью.
– Ты все знаешь, боярин? – тихо произнес он, и натянутые нервы не выдержали – он разрыдался.
Матвеев вплотную подошел к нему и, положив руку на плечо, произнес:
– Полно, полно… Перестань. Расскажи мне лучше, как все это произошло.
И, хлопнув в ладоши, боярин приказал вошедшему холопу принести воды.
Успокоившись, Яглин начал рассказывать, начиная со времени своей жизни на берегах Волги.
XVII
Матвеев, не говоря ни слова, слушал рассказ Яглина. На его умном лице не раз проглядывало сочувствие ко всему, перенесенному рассказчиком.
– Я все тебе рассказал, боярин, – закончил Яглин, – ничего не утаил от тебя. Я хорошо знаю, что за мое самовольное бегство из царского посольства и за обманное поступление на царскую службу меня ждет плаха. Но рассуди сам, боярин: мог ли я поступить иначе как в том, так и в другом случаях?
– Дело очень сложное, – подумав, ответил Матвеев. – Вот ты все рассказал без утайки, и я понимаю тебя. Понимаю, что ты там полюбил и не мог бросить на произвол судьбы любимого человека, что, как ни хорошо в гостях, а дома, каков он ни будь, все же лучше. Да вот те-то, что сидят у нас по приказам, да те, что норовят повернуть на зло тихую душу царя, они-то поймут ли? Ведь для них буква закона дороже его смысла, своя выгода дороже чужой жизни. Они уже многих так загубили, много зла наделали. Они и меня готовы съесть за то, что чуть что полезное в иноземщине увижу, так норовлю на нашу русскую почву пересадить. Так и с тобой. Не дай Бог, если кто проведает, что ты на самом деле за человек: и тебе несдобровать, да и я в опалу попаду за такую оплошность.
– Что же делать? Научи, боярин.
– Что делать? Я и сам про то думаю, но придумать пока не могу, – в недоумении развел руками Матвеев. – Гаден вон уже сделал извет на тебя. А опознал-то тебя ваш же Посольского приказа дьяк. Им ведь глотки не заткнешь. Если не вслух, так втихомолку станут об этом шушукаться. Пока, правда, особенного ничего нет. Гадена я турнул отсюда да завтра ему намылю голову за то, что поклеп возводит на товарища. А за дьяком следить велю и, чуть что, заставлю его замолчать. Ну а что касается тебя, то уж, видно, коли назвался груздем, так полезай в кузов: оставайся по-прежнему на царской службе дохтуром Аглиным, а там дальше будет виднее, как дело пойдет. Может быть, если будет удобный час, я царю обиняками расскажу всю твою историю и тебе прощение испрошу. Важно тут то, что ты первый дохтур будешь из наших, русских людей. Не все, стало быть, в чужеземцы ходить нам за всем. Может, царь на это поддастся. А ты тем временем старайся править как можно лучше свою службу, прилежничай.
– Спасибо тебе, боярин, за все, – с чувством сказал Яглин. – Успокоил ты меня с этой стороны. Вот теперь мне только бы дознаться: жив ли мой отец?
– Ну, про это тебе ничего сказать не могу. А что воевода свияжский и до сих пор еще на воеводстве, так это доподлинно знаю. Ну и с тем делом следует еще погодить: тебе надо еще себя обелять. – Поговорив еще несколько времени и обнадежив Яглина, Матвеев расстался с ним. – Да приходи ко мне в воскресенье на пирог со своей гишпанкой, – сказал он на прощанье. – Вот и будем мы с тобой оба русские да с чужеземными женами.
Позже Яглин еще не раз задумывался о судьбе этого передового человека того времени, а пока они расстались.
XVIII
«Декабря в пятый день Великий Государь указал быть за собою, Великим Государем, в походе в Троице-Сергиеву лавру из Аптекарского приказа с лекарством дохтуру Симону Зоммеру, да дохтуру Роману Аглину, да аптекарю Крестьану Эглеру, костоправу Степану Максимову, лекарю Федору Ильину, да истопнику, сторожу, да ученику. А под лекарства указал Великий Государь дать: три подводы дохтуру Симону, три подводы дохтуру Роману, четыре подводы лекарю, да костоправу, да ученику, по подводе человеку, сторожу да истопнику. Подводы с санями и проводниками из Ямского приказу. А прогонные деньги даны будут из новой аптеки».
Такую бумагу получил Яглин.
Он хорошо понял, что это – дело рук Матвеева, который хотел, чтобы он почаще попадал в поле зрения «светлых очей государевых», чтобы Тишайший присмотрелся к нему – и из этого, быть может, выйдет что-нибудь путное.
В середине дня Матвеев, Яглин и Зоммер и аптекари старой аптеки наряжали особую царскую походную аптеку. На большом столе стояла «шкатула», разделенная на четыре ящика, два пустых короба и «заморский ящик с весками и скрупонами». Аптекари принесли целую груду пустых сулеек (склянок) со стеклянными пробками и налили туда различного рода масла – коричное, янтарное, гвоздичное, мускатное, миндальное, горькое и сладкое. В другие склянки – побольше – были налиты эликсиры и эссенции, «духи» (спирты), «водки апоплектики».
Между первым и вторым рядом, в исподнем меньшем ящике, лежали: ложка, чарка, две лопатки серебряных, пестик медный, тафта белая да алая.
Пониже, в третий ящик, в круглых сулейках, поставлен был запас «водки апоплектики», затем «безую пять нарядов без инроговой кости, безую же пять нарядов с инроговой костью».
В самом нижнем ящике стояли в стопках разные сахары, соли, пластыри, порошки – «пургацейный», от глист, от насморка, от кашля и «бальсамы» в костяных сосудах. Кроме того, были положены склянки с сиропом «из жеребячья копыта», «дух из червей», «дух из муравьев».

