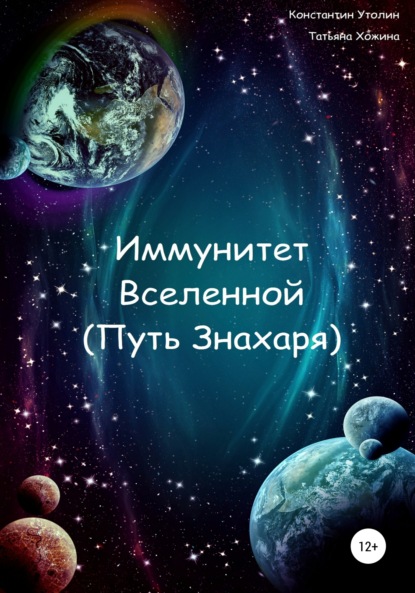 Полная версия
Полная версияИммунитет Вселенной (Путь Знахаря)
– Ты чего? – спросил друга знахарь.
– Не знаю. Чего – то головная боль накатывает. С чего бы это? Я ж здоров как бык!
Дмитрий сразу же попросил разрешения помочь и, буквально за минуту убрав боль и ощущение тяжести в голове, предложил завершить экскурсию. Тем более, что напряженность некоторых энергий в этих местах была выше той, которую мог «переварить» организм Трофимова. Поэтому они вернулись к посадочной площадке и уже на флайере перелетели на 8 км к западу от города, где и заночевали в монастыре Дрепунг. Это было на редкость огромное сооружение! И самое удивительное, действующее! Огромное скопление монашеских обителей, построенных на склонах холма, были соединены между собой переходами и лестницами сразу на нескольких уровнях. Здесь же находились ступы с останками второго, третьего и четвертого Далай – ламы. В монастыре постоянно жили более 10 тысяч монахов, а еще многие приходили и останавливались, совершая обряд «кора» – обход святынь. Поэтому беседуя со здешними монахами и Учителями, более открытыми, чем потальские, Дмитрий смог узнать кое – что новое в отношении здешних верований и психотехнических практик. Некоторые оказались весьма интересными. Но узнать что – то о тонкостях заинтересовавшего его древнего тибетского боевого искусства маг – цзал, увы, не удалось и здесь.
Однако ему сказали, что некоторые мастера этой системы находятся в путешествии по китайским монастырям, где обмениваются знаниями и опытом с мастерами китайских традиционных искусств. «Что ж, может мне повезет встретить их там», – подумал Дмитрий. Потому что следующим утром их ждал полет к горе Кайлас, после чего они сразу же отправлялись к легендарным китайским горным массивам Удан и Эмей, славящимся расположенными там даосскими обителями.
Стартовав на рассвете, величественную белоснежную шапку Кайласа они увидели еще издалека. Она сверкала в лучах восходящего солнца, а по ее склонам с ледников, как и много тысячелетий назад, тонкими ручейками сбегали четыре великие реки Азии, набирая силу и мощь за сотни километров течения по своим неизменным в вечности руслам. Ганг на юг, Инд на север, Сатледж на запад и Брахмапутра на восток. Это место было священным для основных великих азиатских религий, и многие паломники приходили сюда совершить кору, а многие адепты для совершенствования практик и медитаций. Знахарь лично смог ощутить исходящие от священного места особые вибрации.
Тут были индийские йоги, буддисты в оранжевых одеждах, темнокожие непальцы, приверженцы древней тибетской религии Бон. Храмы, монастыри, множество разноцветных трепещущих на ветру флажков, скульптур, крутящихся барабанов. Один из живущих тут тибетцев, лекарь, пригласил их в свой дом. Пока мужчины вели неторопливый разговор о травах, хозяйка выставила на стол более 15 блюд! Отказаться было неприличным и рассматривалось бы как оскорбление. Это Дмитрий узнал из освоенного им перед путешествием массива информации об обычаях и нравах жителей тех мест, которые они с Александром наметили к посещению. Переглянувшись, друзья приступили к трапезе. Завершили которую любимым блюдом тибетцев – часуйма, который большинству известен как «тибетский чай». Больше похожий на горьковатый мясной бульон, чем на привычный для большинства чай, поданный напиток кроме зеленого чая содержал еще молоко, гвоздику, кардамон, имбирь и топленое масло яка. И был чуть – чуть соленым.
Одновременно с едой поговорили о священной горе и коре. Если бы было больше времени, Дмитрий с удовольствием тоже совершил бы обход святой горы – вокруг было много прекрасных пейзажей и интересных мест. Но пришлось довольствоваться облетом, благо в выделенном им флайере была функция камуфляжа, которая позволила лететь достаточно низко и при этом не мешая ранним пилигримам. Некоторые, правда, как отметил Дмитрий, во время пролета над ними невидимой машины, поднимали головы вверх. Они явно чувствовали летательный аппарат. Когда он сказал об этом Трофимову, тот хмыкнул:
– Ну вот, теперь опять пойдут слухи о таинственных "вимана" из Шамбалы. Ну и ладно.
Правда, оказалось, они не одни такие хитрые. «Иришка» сообщила, что в радиусе действия детекторов фиксируется еще один идущий сходным курсом флайер, который также закрыт камуфлирующим полем.
– Нет, ну вот народ! – возмутился Трофимов. – Это ж строжайше запрещено! Системой «невидимка» оснащены только аппараты спецслужб и внеземного назначения. Но как бы их не отлавливали, все равно находятся любители шикануть! Ну да, это ж так круто иметь такую систему! Перед девчонками выпендриться! А представь, что будет, если такой шустрик на загруженную магистраль выпрыгнет?! Это вон у нас «Иришка» отслеживает любое движение в радиусе до тысячи километров, сопровождая одновременно до полутора сотен движущихся объектов, и автоматически сманеврирует. Причем она имеет системы слежения, позволяющие обнаруживать и аппараты, использующие стелс – режимы – по производимым ими при движении возмущениям воздуха. Но подобные ей бортовые системы – экзклюзив, а у большинства то бортовые компы и системы слежения за обстановкой послабей на порядок и поэтому «невидимка» в городе может спровоцировать крупную аварию. Но даже здесь в пустынном месте это неприятный сюрприз (в исторических местах полеты не приветствуются, туристы и паломники передвигаются пешком или на наземных видах транспорта). Надо бы этих соседей идентифицировать и сообщить в СОП. «Ириша», ты запросила этот борт на предмет идентификации?
– Они не отвечают. Даже внутрисистемный обмен – распознавание с их бортовым интеллектом заблокирован. Я уже передала данные в службу контроля движения (СКД) СОП. Но проследить за ними не удалось – едва почувствовав сканирование, они тут же сменили курс и сейчас удалились от нас уже на пятьдесят километров, наращивая скорость.
– Значит, либо СВИ – детели, либо спецслужбы. Может кто – то решил перебдеть и за нами пустили «наружку». Хотя вряд ли – всем, кому надо, известны возможности нашего «флайера» и они бы нас лучше со спутников «пасли». Ладно, разберемся.
– А нам самим не попадет, что мы пользовались «невидимкой»? – спросил Дмитрий.
– Нет, у нас особые полномочия, а ты у нас спецгость. К тому же пользуемся мы ей первый раз, из лучших побуждений и абсолютно безопасно для окружающих.
Сказав это, Трофимов отдал «Иришке» приказ взять курс на следующую точку маршрута – горы Эмей – одно из двух легендарных сосредоточий даосских монастырей и отшельников.
Сделав спираль над грядой Эмей – шань, они не стали подлетать к намеченному для осмотра комплексу монастырей, а опустились у подножья горы, на склонах которой тот расположился. Дмитрий хотел пройтись пешком, чтобы хоть чуть – чуть проникнуться местной культурой и насладиться экзотическими видами и ощущениями. А посмотреть было на что. Мягкие очертания гор, напоминающие изгиб девичьих бровей. Как поведал им автоматический гид, взятый Трофимовым в стоявшем неподалеку от посадочной площадки павильоне местного туристического центра, местные горы потому и получили такое название. Ведь «Эмей» переводиться с китайского как «прелестные брови красавицы», а «шань» означает «гора». Помимо красивого ландшафта, достопримечательностью здешних места были также панды. Робогид услужливо сообщил, что после почти полного их истребления в ХХI – м веке, популяция была вновь полностью восстановлена, в том числе благодаря и технологиям генетической репродукции.
Дмитрий с наслаждением созерцал красивейшие озера, бабочек весьма впечатляющих размеров и расцветок, а главное, царящую вокруг маршрута их движения удивительную гармонию человеческих построек и природы! Современные города, хотя и стремились к подобному, но такого уровня соразмерности и сочетания с природой похвастаться все – таки не могли. Тут же, казалось, даже время замерло, давая возможность каждому приобщиться к Вечности. Все суетные мысли и ощущения постепенно уходили. А спустя некоторое время и темп ходьбы постепенно снижался, словно само тело хотело подольше насладиться единением с природой и изумительными по гармоничности древними постройками. Многие из которых издали казались игрушечными или сошедшими на землю с картин.
– Эти горы объявлены историческим местом, – пояснил гид, пока они переправлялись на пароме через озеро. Паром был выполнен в традиционном китайском стиле и напоминал миниатюрный домик с многоскатной загнутой крышей. – Тут все осталось как много веков назад. И все новые постройки создавались согласно канонам древних традиций.
Далее, осмотрев несколько достопримечательностей, побродив по паркам и садам, полюбовавшись прудиками и статуями, они на канатной дороге поднялись к монастырю. Подвесной вагончик медленно скользил над живописнейшими склонами, давая возможность туристам полюбоваться видами. Позже они посетили самую большую высеченную в скале статую Будды и, пройдясь по каменной лестнице, с двух сторон окруженной цветущими зарослями, оказались в одном из монастырей. Солнце уже шло к горизонту, окрашивая облака в нежную розовую гамму. И очарованные открывшимися видами и буквально дышавшей умиротворением природой, друзья решили заночевать в монастыре. Благо монахи любезно предоставляли гостям такую возможность, имея для этого специальную гостиницу.
Поужинав с гостеприимными монахами и прекрасно отдохнув на свежем воздухе, путешественники проснулись с первыми лучами солнца и смогли наблюдать тренировки в сразу трех стилях эмейского ушу. Упражнения одной из них настолько заинтересовали Дмитрия, что он с разрешения ее наставника встал в задние ряды учеников и постарался сделать все демонстрируемые теми движения. Наблюдавший за знахарем Трофимов в очередной раз удивился его способностям – тот почти сразу же стал повторять упражнения практически без ошибок. Что было замечено и ведущим занятия наставником. Он подошел к Дмитрию и предложил ему отойти в сторону. Где стал показывать какие – то сложные (как Александр узнал позже, называющиеся «облачными») движения. Повторив которые, Дмитрий в ответ показал одну из своих «цепочек внутренних превращений». После чего земной мастер, к удивлению Трофимова (ученики местного шифу продолжали упражняться и, казалось, вообще не замечали, чем занимается их наставник с каким – то неизвестным гостем), поклонился Дмитрию и что – то ему сказал. Тот поклонился в ответ и вернулся к Александру.
– И что он тебе говорил? – поинтересовался прогрессор.
– Он понял, что я не землянин и выразил удивление, что те движения, которые я ему только что показал, очень похожи на одну из форм древней школы тай – ян Лун Дао – «солнечного дракона». И пригласил после тренировки поговорить. Я согласился.
Когда занятия закончились, мастер пригласил Дмитрия и Трофимова отведать вместе с ним чжу е цин – уникального зеленого чая, выращенного в монастырских садах холмистых склонов и приготовленного по древнему рецепту. Созерцательное наслаждение изысканным напитком тоже было частью китайской традиции. Как и неторопливая беседа.
Старый мастер подал чашки, предлагая оценить вкус и аромат напитка. На вид старец казался таким же древним, как сами горы, но высохшее тело его было еще крепко (в чем они могли убедиться на тренировке), а темные глаза светились умом и необыкновенной проницательностью. Неторопливо отхлебнув изумительный напиток, он представил им еще одного гостя – тибетского мастера, приверженца школы боевого стиля маг – цзал, который путешествовал по местам Силы в поисках просветления. Дмитрий сказал, что настоятель одного из тибетских монастырей сказал ему, что такая встреча может состояться и он очень надеялся, что сможет узнать подробнее об этой удивительной древней системе, о которой сведений мало даже в век, казалось бы, содержащих информацию обо всем и вся баз данных.
Они сидели в открытой беседке в глубине сада. С одной стороны видны были выложенные камнем дорожки и утопающий в зелени пруд, окруженный статуями, с другой открывался восхитительный вид на покрытые лесом горы. Снизу поднимался туман, окутывая темную зелень и предавая пейзажу умиротворяющее спокойствие. Воздух был свеж и кристально прозрачен. Все это настраивало на философский лад, и вскоре беседа потекла сама собой, как – то незаметно и при этом вполне органично перейдя с медицины и боевых искусств к теме формирования государств. «Вот уж действительно – что наверху, то и внизу», – подумал Трофимов, осознав, что переход между темами произошел так гладко, что вроде бы разговор шел все время об одном.
– Посмотрите на эти чудесные почки, распустившиеся в хрустальной воде, – сказал тибетский мастер. – Они красивы, безупречны и дарят нам бодрость. И этим похожи на все в природе – безупречное по отношению к самому себе и дарящее себя миру без каких бы то ни было условий! И лишь мы, люди, выпадаем из этой всеобщей гармонии.
– Собранные вместе и надлежащим образом приготовленные, чайные листы дарят защиту от многих болезней, – степенно кивнул учитель школы эмей – пай. – И в этом они похожи на воинов. Недаром именно воины были первыми правителями Поднебесной, ее опорой и гарантами стабильности. Лишь возлагая бремя власти на воинов, народ мог жить спокойно.
– И не только в Китае, – добавил тибетец. – Я был в разных местах и везде в истории были периоды, в которые эти страны и народы развивались особенно успешно – и почти всегда в эти времена правили ими именно выходцы из касты воинов.
– А ведь верно! – подхватил Трофимов. – И в русской истории тоже так – государство на Руси было основано князьями, дружиной, кастой «русских кшатриев»! Не торговцами или учеными, а именно военными! И долгие годы вся аристократия была выходцами именно из семей военных. И юноши всегда обучались в воинских корпусах, чтобы быть защитниками Отечества. А верховный правитель всегда был и главнокомандующим.
– Да, но все гораздо глубже, – сказал тибетец, сделав очередной глоток и прикрыв глаза. – Воины не только хранили и защищали государство – они ВОПЛОЩАЛИ саму его СУТЬ. И именно поэтому они же им безраздельно и правили.
Знахарь был удивлен. То, что земное общество изначально строилось на ущербных принципах, и потому было сродни хроническому больному врожденным заболеванием – в этом он был уже уверен. Но что это заболевание имеет столь глубокие корни и так обширно, он все – таки не подозревал. Какие – то сплошь больные модели развития!
– Ты, я вижу, не согласен с нами. А том мире, где ты родился, известны другие способы достижения гармонии правления? – заметив его озабоченность, спросил старый наставник.
– Я здесь гость и не вправе что – то указывать. И с уважением отношусь к вашей истории. Но подумайте – получается, что большинство ваших систем управления у большинства же народов основаны теми, кто НИЧЕГО НЕ ПРОИЗВОДИТ И НЕ ТВОРИТ. И поэтому в рамках систем правления, созданных воинами, всем людям созданное своим трудом изначально приходилось ОТСТАИВАТЬ. А это значит, что у большинства жителей вашей планеты, включая и самих создателей государств, были изначально высокие уровни агрессивности и стремления к паразитизму. Раз приходилось отстаивать, значит, были те, кто хотел отобрать!
Кроме того, изучая вашу историю, я понял, что есть два типа воинов:
а) те, кто воюет за некую идею (кто-то защищает Родину – как он ее понимает, кто-то Веру – опять же, как он ее понимает) и при этом целью своих действий имеют СКОРЕЙШЕЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ МИРА. И после войны хотят стать учителем, хлеборобом, сталеваром и т.д. и т.п. Т.е. хотят заняться созидательным трудом! И при этом на войне они вполне высококлассные бойцы.
б) те, кому нравится именно воевать. То есть те, кому, если смотреть правде в глаза, т.е. предельно честно, и отбросить политкорректность, внутри нравится ощущать то, какая убийственная и разрушительная мощь сосредоточена в их руках! Пусть даже им ни разу и не пришлось ее применить.
И главная разница между воинами первого и второго рода в том, что первый может быть эффективным солдатом, но потом может стать и хорошим учителем или врачом, а вот второй нет – потому что в душе он ХИЩНИК! Среди этих вторых большинство – скрытые или явные суперанималы (согласно терминологии, которую ввел живший еще в вашем 20-м веке русский ученый Поршнев32). Т.е. крестьяне могли стать воинами, но после окончания войны снова возвращались на поля, а вот аристократы умели ТОЛЬКО ВОЕВАТЬ! И это очень-очень плохо, потому что у воинов второго рода напрочь отсутствует функция созидания! А еще разница между воинами первого и второго рода примерно как между охотником-промысловиком и охотником-туристом: первый добывает себе пропитание и убивает только тогда и столько, сколько надо. И просит прощения у душ убитых им зверей. А второй куражится и убивает просто так, из азарта. Еще одна аналогия – разница между бойцом вашего так называемого «нового панкратиона» и, скажем, фри-райдером, паркуристом и бейс-парашютистом. И боец, и те трое, занимающиеся экстремальными видами спорта, могут получить тяжелые травмы, причем те же бейсеры относятся к категории риска потери здоровья более высокой, чем рукопашники. Но при этом фри-райдер, бейсер или паркурист НЕ НАНОСЯТ ВРЕДА НИКОМУ, КРОМЕ САМИХ СЕБЯ и силами меряются с природой! А вот боец стремится причинить вред своему противнику!
И мне, если честно, не понятно, почему у вас так популярен именно воинский подвиг. При том, что в вашей не такой уж древней культуре существовал ИНОЙ ТИП ПОДВИГА – условно говоря, не "аристократически-воинский", а "крестьянский". Ведь подвиг, если посмотреть по русскому языку, это подвижение себя за свой предел. И делать это можно по-разному. Можно собрать все силы и в едином порыве и выйти куда-то, куда еще никто не выходил. Но потратив все силы, ты откатишься обратно и останется лишь память о том, что «с тобой это было» или «у меня это однажды получилось». Воин-аристократ привык преодолевать себя, порой это связано и риском для здоровья и даже для жизни. Но преодоление это происходит рывками. Аристократ преодолевает себя я чем-то вроде вспышки. И так и живет – от рывка до рывка. А между рывками накапливает силы. Накопление сил – это отдых. Чем-то этот отдых был похож на «сомнамбулических сон». Из этого сна воин выходит лишь тогда, когда приходит пора снова идти за свой предел. Воин-аристократ может позволить себе отдых. Это возможно тогда, когда кто-то работает вместо тебя. Образ жизни аристократа позволяет ему жить от рывка до рывка – от одного предельного напряжения сил и подвига до другого предельного напряжения сил и очередного выхода за свой предел. Все остальное время он может купаться «в шампанском и женщинах». У крестьянина же наоборот. Жизнь крестьянина размерена, в ней нет никаких рывков. Крестьянин трудится постоянно – от зари до зари. Чтобы так трудиться, силу нужно уметь накапливать по ходу того, что делаешь. И накапливать и – самое главное – не расплескивать без толку. Жить так, как живут аристократы, может любой из нас. А жить так, как живет крестьянин, сможет далеко не каждый. Труд «крестьянина» – это постоянный кропотливый каждодневный труд, плоды которого, к тому же, порой сразу и не видны. И многие не могут надолго оставаться в деле, особенно если это дело направлено на самосовершенствование, если плоды этого дела видны не сразу. А так ведь хочется получить все и сразу. И в этом контексте крестьянин также отличается от аристократа, как взрослый, отвечающий за свою жизнь человек, отличается от ребенка. Взрослый может отвести нужный для какого-либо дела запас сил, ребенок, как правило, не может – и он бросает игрушку – «сложную головоломку», если сразу не получается её собрать. Постоянное усилие – это что-то вроде постоянного горения Души. Такое постоянное горение поддерживать трудно. А вспыхивать ярким костром или даже «взрывом» время от времени намного легче. И к тому же кажется, что это сильнее и ярче. Но если задуматься, то периодические вспышки ничего не дают в плане совершенствования Души. Вот мы сейчас сидим и пьем чай. И что было бы, если бы мы поставили чайник на сильный огонь, дали ему постоять пару секунд и затем сняли его. Так вскипятить воду мы бы не смогли. Чайник закипает постепенно. Если же время от времени его снимать и давать ему остывать, то он не закипит никогда. Яркие вспышки оставляют после себя лишь яркие воспоминания. И лишь постоянное усилие – постоянное крестьянское упорное подвижение себя за свой предел изменяет тебя – совершенствует и закаляет Душу. И только так происходят настоящие изменения себя, которые изменяют и Мир вокруг тебя. И что только так обретаешь важное понимание и тогда изменяется подход ко всему, что ты делаешь. Только так ты превращаешься в Подвижника. А все что ты делаешь, становится Подвижничеством.
Более того, такой подход применим даже в таком, казалось бы, совершенно конкурентном деле, как боевое искусство! Здесь на Земле в некоторых местах сохранилось еще, насколько я смог понять, понятие "биться на любки". Очень близкое по смыслу и исполнению к тому, что есть на моей родной планете. А то, как сейчас состязаются у вас в спорте, наши старики называют "на зверки" – то есть, упереться, озвереть, убить чужое движение, "порвать" и сделать свое. У нас вообще бьются только либо "на любки" – то есть, неувечно, полюбовно со своими, либо на смерть – когда приходит враг. Хотя на моей планете это происходит все реже и реже. Вы же, получив «блага цивилизации», все больше учились тому, как разрушать и причинять боль, воплощая в этом свои скрытые страхи и выплескивая накопившуюся внутреннюю боль. Вас с самого детства старательно обучают тому, что конкуренция – это правильно и более того, единственно правильно. И весьма печально, что вы, земляне, почти утеряли подход ваших предков, которые вместо "конкуренции" умели сотрудничать, умели жить вместе – сообща всем миром. В прежние времена после 12 часов за плугом ваши мужики шли повозиться друг с другом и делали это всегда «в любках». И надо было быть сумасшедшим, чтобы вместо оздоровления и отдохновения переходить в "зверки" и подвергать риску увечья (или травмы) себя и товарища, обрекая его на следующий день на частичную или полную недееспособность. И тем самым обрекая его и его семью (или себя и свою) на голод или даже смерть. Это было мировоззрением, жизненным укладом, из которого рождался и подход к ударам. При всем при этом остро вставала необходимость владеть ратным делом, потому что у вас на планете еще не столь уж в давние времена войны были довольно частым делом. Поэтому нужно было уметь сражаться. То есть надо было учиться биться по-настоящему, и в тоже время как-то так, чтобы это было неувечно. И если задуматься, то это очень непростая задача.
Так обсуждение того, как возникла и постепенно захватила власть каста воинов, а потом и торговцев, опять вернулось к теме боевых искусств. И собеседникам Дмитрия захотелось узнать, как зародились и какие формы приобрели боевые искусства в его мире.
Содержание этой беседы – в записи 1 к Главе 19 Спец. Приложения «Дневник Дмитрия».
Чаепитие продлилось еще около часа. Слава Богу, темы «планетарного масштаба», как выразился Трофимов, были закрыты и все это время старый наставник и тибетец рассказывали Дмитрию и Александру про разного рода достопримечательности, а также делились секретами заварки разного рода чаев. А в самом конце беседы наставник эмей – пай подарил гостям семена выведенного лично им сорта чайного куста. И Трофимов в очередной раз удивился тому, насколько непосредственным, при всей своей несомненной мудрости, может быть Дмитрий. Он радовался этим семенам так, словно получил ну как минимум ГИМП.
Когда чаепитие завершилось, тибетец стал прощаться. Выяснилось, что его ждет мастер другого направления эмей – пай и опаздывать не вежливо. Дмитрий выразил сожаление, что не сможет составить ему кампанию, хотя очень бы хотел. Но им с Александром тоже надо спешить – на Земле еще столько прекрасных мест, которые он должен успеть посетить. Все засобирались и покинули гостеприимный дом. Старый наставник проводил Дмитрия и Александра до посадочной площадки, на которой стоял их флайер.
Спускаясь с горы, друзья заметили работавшую на поле группу людей, несколько отличавшуюся от трудившихся неподалеку монахов. При взгляде на них знахарь сразу ощутил нестабильность и «дырявость» их энергетики.
– Это бывшие наркоманы, – пояснил сопровождающий, заметив его удивление. – В долине есть ЗАО, где они содержаться. Иногда мы проводим экскурсии для этих несчастных и некоторые остаются у нас. Мы готовы взять на себя такую ответственность. У нас они быстрее становятся полноценными людьми.
– Вы содержите наркоманов в ЗАО? – спросил Дмитрий, когда они с Александром подошли к флайеру и, попрощавшись с провожатым, забрались внутрь.
– Наркоманов и хронических алкоголиков, – пояснил прогрессор, садясь в кресло пилота и надевая нейросенсорные шлем и перчатки. – А также ДВР-ов – это сокращение от английского термина depending on a virtual reality – пребывающие в виртуальной реальности. То есть люди, которые безвылазно торчат в ВР повышенной реалистичности. По сути это ведь все социальные инфекции, вот мы их и изолируем. Эти места разделены на зоны для тех, кто хочет лечиться и тех, кто желает жить в мирах иллюзий. У человека должен быть выбор, как жить. Наркотики, выпивка и доступ в ВР там крайне дешевые и хорошего качества. При этом тем, кто хочет стать нормальным, предоставляется бесплатная высококвалифицированная помощь и реабилитация. Монастыри, кстати, в этом огромное подспорье.



