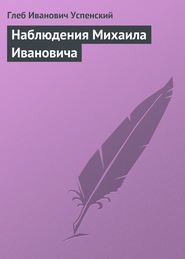 Полная версия
Полная версияНаблюдения Михаила Ивановича
– А! Николай Петрович! – сказал он Уткину и посмотрел на всех такими глазами, в которых не видно было, чтобы приятель Уткина считал «делом» происходившее здесь. Смелость и особенную выразительность этого взгляда поддерживали простые костюмы дам.
– Так пожалуйста! – торопливо поднимаясь, заговорила Надя.
– До завтра! – сказал Уткин. – Это дело такого рода…
– До завтра! – сказала Надя, и вслед за тем они ушли.
Уткин и приятель остались одни.
– Эге, батюшка! – многозначительно сказал приятель; но Уткин нахмурился и объяснил, что предположения его неуместны, что тут такое и такое-то дело. Приятель, в качестве современного человека, извинился. «Не узнаешь ведь», – сказал он, взяв серьезного Уткина за талию, и пошел с ним по дорожке.
– А та, угловая-то, недурна! – сказал приятель.
– Тут не в том дело! – начал Уткин сурово.
– Я очень хорошо понимаю. Вы, батюшка, уж больно горячо. Ведь я понимаю-с! Читали тоже…
Уткин почувствовал, что обидел приятеля почти понапрасну.
– Они обе недурны! – сказал он мягким, но обидчивым тоном.
– Нет, та, блондинка-то…
– Да они обе блондинки, – тем же недовольным тоном проговорил Уткин.
– Ну ведь не разглядишь…
Они подошли к реке и сели на лавку.
– А знаете, – сказал приятель: – я, батюшка, как-то недолюбливаю блондинок… а?
– Гм! – промычал Уткин, но не возразил, потому что увлекся рассматриванием полуобнаженных баб, колотивших вальками на плотах белье.
– Право, – продолжал приятель и сообщил в довольно продолжительном рассказе все свои сведения о блондинках и брюнетках. Под влиянием этих рассказов взгляды Уткина, незаметно для него самого, приняли весьма веселое направление.
– Да, – сказал он снисходительно: – блондинки вообще…
– Я вам говорю…
– Но эта, кажется, нет. Открытая война с мужем… не шутите!..
– Послушайте! – перебил приятель оживленно. – Будет вам умничать… Знаете? Тащите-ка их пить чай… Денщика по шее… а?
Уткин сообразил, что в подобных случаях многозначительно говорят: «милостивый государь!», и попробовал сделать серьезное и презрительное лицо; однако же попытка эта, не поддержанная никаким нравственным пособием, тотчас же уничтожилась, и Уткин сказал:
– Не пойдут!
– Ну вот еще!
И приятель стал убеждать Уткина, у которого вследствие этого очень скоро образовались два совершенно дружелюбные между собою и совершенно различные взгляда на наших приятельниц: не худо бы, думалось ему, «обработать» и «вопрос» и «чай».
– Не пойдут! – повторил он уже с улыбкой и прибавил: – неловко!
Скоро, при помощи приятеля и картины стиравших белье баб, обнаружилось, что в нравственном фонде Уткина одновременно могут уживаться и не такие еще взгляды.
Мимо приятелей прошел солдат с комком белья подмышкой и мокрыми косицами.
– Купался? – спросил офицер, когда солдат сделал ему честь.
– Так точно, васкбродие!
– С бабами?
– Там их страсть… копошится…
Приятель Уткина и сам Уткин полюбопытствовали узнать, где копошатся бабы. Солдат подался к реке и показал – где.
Приятели поглядели по указанию, но ничего не видали.
– Ну что же, – начал офицер: – Лукерья с тобой?.. Ведь ты – шельма!
– Нету-с, васкбродие… второй месяц как прогнал ее.
– Прогнал? Вот негодяй-то! Ты? за что же?
– Не производи обману… Обещалась подарить часы, а заместо того – нету ничего: этого нельзя!
Солдат остановился.
– Ну? – побуждали его слушатели.
– Ну пришла она, я ей и доказал: «как ты меня обманула», говорю… то и взял ее платье себе…
– Вот скоты! – не без улыбки произнесли слушатели. – Ну?
– Ну, потом стали сечь.
– Как сечь?!
– Чересседельником. Скрутили его вдвое и давай… хе-хе… Сначала Матвеев – я держал. А потом Матвеев стал держать – я принялся, еще сорок ударов дал.
– Ну уж это подло! – сказал Уткин и прибавил: – как же ты ее – по платью, что ли?
Солдат объяснил. Офицер сказал: «Вот мерзавцы». Уткин объявил, что это мерзко, и оба вместе долгое время хохотали. Рассказчик еще долго потешал господ, по их небрежному, но беспрерывному понуканию, и, наконец, ушел. К концу вечера взгляды Уткина на женский пол до того прояснились в известном направлении, что он уже сам сказал приятелю:
– А что в самом деле? – Но, как бы опомнившись, тотчас же прибавил: – нет, не пойдут!
На следующий день, отправляясь на бульвар, чтобы вести переговоры, он нес с собою такое громадное количество самых разнородных взглядов на наших подруг, что ни считать, ни распространяться о них мы не решаемся. Все эти взгляды мирились, жили в нем одновременно, но едва ли могли быть пригодными для осуществления крошечных надежд Софьи Васильевны. Эту непригодность чутьем проведала Надя, несмотря на то, что Уткин таким же сочувственным тоном, как и вчера, отзывался о необходимости для Софьи Васильевны свержения ига и проч. Точно так же, как и вчера, в кустах около беседки можно было слышать разговоры о том, что Софья Васильевна уверена в своей готовности есть корку хлеба, что Уткин вслед за тем несколько раз подтверждает это, говоря: «Ко-орку! Разумеется, корку…» Чего же лучше?» Но Надя уже со второго свидания как-то замолкла, пытливо смотрела на Уткина и ушла домой в раздумье.
3
Таким образом, оказывается, что первые шаги «вперед» как У Михаила Иваныча, так и у Нади не были особенно удачны и только убедили их в силе окружающего их разоренья и разнообразии форм, в которых оно проявляется. Ошеломленный и вконец расстроенный Черемухиным, Михаил Иваныч с каждою минутою расстраивался еще более, теряя всякую возможность разъяснить себе будущие свои планы, по мере того как входил в более короткое знакомство с обывателями Черемуховских нумеров. Нумера эти содержал какой-то седой старик, отставной солдат. Каким образом он нажил деньги, чтобы завести в Петербурге большое хозяйство, было неизвестно: ни он, ни жена его, молчаливая сгорбленная старушонка, никогда об этом не упоминали; оба они молча и угрюмо толклись в кухне, стряпали, таскали дрова, ходили на рынок и бегали в кабак по приказанию господ жильцов. Посторонний человек, как Михаил Иваныч, мог глубоко жалеть их, потому что большинство жильцов не платило старику денег и кроме того на его счет покупало водку и пиво и занимало на извозчиков. Но, в сущности, солдат этот нисколько не страдал от того, что ему не платят и берут у него деньги, ибо среди молчаливого таскания дров и сосания махорки он тоже по-своему понимал дух времени и разоренья и извлекал из них более существенную пользу, нежели Михаил Иваныч. Сущность этого понимания солдат любил высказывать один, глаз на глаз с самим с собою. Это случалось по вечерам, когда все жильцы улягутся, угомонятся; тогда солдат надевал рваный халат и выбирался из кухни в переднюю отдыхать; отдыхал он стоя, курил в это время трубку, смотрел на ночник и рассуждал.
– Денег не платят!.. – произносил он. – Хорошо! Ну ежели пущу я в комнату трудящего человека с верными деньгами?.. – Тут он задумывался и, пососав трубку, заключал: – мне это хуже!.. Во сто раз мне превосходнее допущать благородного человека без своего капиталу, нетрудящего… Это верно! Трудящий своим трудом живет, он копейку бережет, он хозяину подвержен, его могут прогнать, а нетрудящий – он трудом не живет, он живет займом, помочью… занятых денег ему не жаль… так-то! Много их нониче бог послал!.. Одному родня помогает, а другому – вон баба деревенская… видишь вот!
Он запахивал халат, поплевывал и продолжал:
– Теперича пиво я им забираю, всякий продукт на свои… ожидаю… ну, получу с лишком! нельзя – за подожданье. Сейчас в одно место записку снесу, в другое и в третье – за проход мне опять же деньги… Откажут по записке – ожидаю, и опять же он мне заплати за это надбавку… Рано ли, поздно ли, а уж достанет денег, займет у кого-нибудь… Я и беру все сполна… Получаю свое удовольствие… Потому жить им надо!.. Будут жить! займут!..
Выработав такой взгляд относительно «нетрудящих людей», солдат крепко и стойко держался его, охотно принимая их в свои апартаменты. Узнать человека, имеющего намерение жить займами, не составляло для него никакого труда. Входит барин, барыня и двое детей и требуют комнату «получше»: это значит, что барин и барыня настолько не обеспечены постоянным заработком, что не имеют возможности одолеть свою квартирку, хоть и похуже… Является хорошо одетый барин и требует комнатку рублей в пять: – это значит, что в настоящую минуту он не имеет в кармане и рубля… «Всем жить нужно, все достанут! займут!» – думает солдат и принимает их в недра своего жилья, записывая на стене мелом: за проход, за подожданье и проч. Все это изображено у него просто, в виде палок, которые, тем не менее, имеют для него каждая свой смысл и значение.
И вот уже два года нумера солдата населяются исключительно «нетрудящим» народом, народом злым, оскорбленным, вспоминающим прошлое и строящим блестящие планы насчет будущего. Так как костюм этого народа находится под залогом у того же самого солдата, то он обыкновенно сидит постоянно дома, в каморках без форточек, в душных облаках кофейного, кухонного и табачного дыма, лежит, ходит взад и вперед по своему логовищу, ведет долгие переговоры с хозяином-солдатом насчет бутылки пива, убеждает, грозит, пьет, вздыхает, напивается, поет, бушует и проклинает.
Михаил Иваныч, истощивший свой кошелек до последней возможности и не находя адреса Максима Петровича, обещанного Черемухиным, томился в неприветливых солдатских нумерах наравне со всеми их обывателями. Как и все, он курил, лежал, злился, шатался по коридору, заходил в кухню, смотрел на проходящего по двору мужика и думал: «куда он идет?» и, повинуясь внезапному взрыву злости, снова в ажитации шатался по коридору и по своей норе.
Среди этой тоски и томительных скитаний Михаил Иваныч незаметно перезнакомился со всеми обывателями солдатских нумеров, все они на первых порах возбуждали в нем некоторую долю сострадания и совершенно сходились с ним в положении. Все они одинаково были согласны, что человек живет неправдою, что истинные достоинства ставятся ни в грош и что хорошо жить на свете могут лишь люди гнусные. Так говорили все вообще жильцы: и толстый человек в угольной каморке, говоривший по-французски, и маленький человек неизвестной профессии, жаловавшийся на жену, и другой человечек, покинутый женою, и женщина, жаловавшаяся на тирана мужа, от которого она ушла, словом – все. Все это бередило раны сердца Михаила Иваныча, доводило его тоску до последней степени и заставляло на последние гроши угощать этих несчастных людей пивом. Но после двух или трех приятельских бесед за бутылкой все эти лица принимали в глазах Михаила Иваныча совершенно другой вид. Толстый человек, под хмельком вспомнивший старину, вдруг выходил каким-то ненасытным хватателем взяток, в качестве начальника над какою-то «дистанцией» бечевника. Маленький человечек, роптавший на жену, оказывался просто деспотом и зверем, ненавидящим свою жену за ее «простое звание», которое его компрометирует перед благородными знакомыми, благодаря которым он давно бы мог получить невесту с капиталом, хотя сам не отказался бы от девчонки и простого звания, если бы она не претендовала на брак. Женщина, покинувшая мужа, оказалась разорительницею его самого. Поочередно с каждым из этих лиц Михаил Иваныч сходился, сочувствовал и потом, плюнув и озлившись, уходил прочь, неся в сердце новую рану. У всех из этих людей Михаил Иваныч, кроме того, заметил любимую фразу о том, что «мы свое дело сделали», «расписались, брат, в получении» и проч., которою они весьма искусно отмахивались от Михаила Иваныча в то время, когда он, в первые минуты сочувствия к ним, предъявлял им свои требования и приглашения. Эта фраза особенно сильно терзала его, когда он, плюнув на них и снова оставшись один, сидел в каморке и думал о своем положении. В покинутой им глуши остались, по его мнению, просто изверги; здесь же, в столице, ему хотя и сочувствуют, но одни, как Черемухин, могут только испортить дело, а другие «уже сделали свое дело», разорили, изуродовали, обобрали. Что ж это такое? Где же Максим Петрович, который никого не грабил и вырос в «неблагоприятных обстоятельствах» русской жизни?
Но Максима Петровича не отыскивалось.
Михаил Иваныч томился, смотрел в окно и кашлял…
4
Положение Нади было ничем не лучше положения Михаила Иваныча. Мертвый дом с умирающею роднёю, со всеми этими злодеями, рекомендованными Михаилом Иванычем и выглядывавшими из-за каждого забора, стоял в полной неизменности. Попрежнему ругалась измученная звонками кухарка Авдотья, попрежнему старая бабка раз в месяц разевала рот, чтобы крикнуть: «в карр… ман-то-о»… Попрежнему соборовали маслом генерала и генеральшу и тщетно ожидали их преставления на тот свет. Убитый Ваня лежал, повернувшись к стене, молча уткнув исхудалое, обросшее длинными белыми волосами лицо в подушку. Глаза его были всегда закрыты, и только легкий стон говорил, что это лежит избитый человек. За мертвым и неприветливым родительским кровом оставались попрежнему одни бестолковые мучители вроде Печкина, добродетельные и симпатичные «голубки» вроде Шапкиных и пустота, желающая во всем принимать участие, вроде Уткина.
Разумеется, как Михаилу Иванычу, так и Наде могли встретиться иные люди; но темный угол, где выросли и родились наши герои и где они хотели найти помощь, не мог им представить ничего другого, кроме широчайшего и громаднейшего разоренья, и не было отсюда видно ни одного луча света…
Такое томительное положение продолжалось довольно долго, не представляя никакого выхода, и, наконец, разрешилось совершенно неожиданно.
5
Для Нади и Софьи Васильевны это произошло на том же бульваре, в присутствии Уткина. Отправляясь на третье свидание с Уткиным, исключительно вследствие просьбы Софьи Васильевны, Надя уже не надеялась услышать от него ничего нового, а главное – никакой правды. Она даже холодно обошлась с ним, молча села на ступеньки беседки, не принимая никакого участия в их разговоре, и ждала Софью Васильевну. Невольно слушая сочувственные слова Уткина, не подвигавшегося ни на шаг к делу, и совершенно искренние излияния Софьи Васильевны насчет готовности есть «корку хлеба», она не могла не заметить, что тут сошлись люди, совершенно не нужные друг другу. И тут с самою поразительною отчетливостью припомнилась ей сцена с бабой у мирового судьи: и там точно так же понимали, чего именно хочет баба, и хотели ей сделать, но не могли; припомнились ей также и все разговоры, происходившие на крыльце суда, и в особенности рассуждения о зубах. «Зубы, зубы надо… небось бы!» – припомнила она…
Все, что было непонятно, выстрадано, передумано, все на мгновение как-то вдруг столпилось в ее голове, она как-то сразу оживилась и вслух сказала себе самой:
– Знать! знать надо… все, все! – повторила она, быстро поднимаясь с ступеньки крыльца беседки.
– Пойдешь или еще будешь? – сказала она Софье Васильевне, не глядя на Уткина.
Торопливость, с которою Надя надевала перчатки, обнаруживая намерение уйти не дожидаясь, оторвала Софью Васильевну от разговора с Уткиным.
– Так до завтра! – сказал Уткин, делая Софье Васильевне весьма ласковые глаза, и подруги ушли бы тотчас же, если бы в это время не произошло нечто особенное.
Отодвигая сердитою рукою куст, на площадку перед беседкой выступил знакомый нам лавочник Трифонов.
– Вот они, соколики! – заговорил он таким голосом, каким говорят люди, поймавшие вора. – Ишь жеребца какого припасли! Где тут еще-то? Их тут, поди, во всех кустах понасажено. Эй ты, тетерев!
На этот зов откуда-то явился Павел Иваныч.
– Правду говорил? – сказал Трифонов. – То-то я слышу: «корку, корку». А вот они тут какую корку… Чего глядишь? Ошарашь жеребца-то по рылу! Пакля! Кабы не разбудил, издох бы – не узнал!..
Павел Иваныч и Софья Васильевна были в каком-то ужасе. Печкин не мог произнести слова и стоял бледный, как полотно. Уткин прочищал палкой и ногой дорогу в куст.
– Ну что же? – командовал Трифонов. – Пехтерь! Производи свой порядок, получай жену-то! Докажи ей, шельме, права!
Софья Васильевна вдруг как-то рванулась вперед, побледнела, хотела что-то сказать и вдруг заплакала, зарыдала…
– Домой! – закричал внезапно, что есть мочи, Печкин.
– Эх, ляпнул дело! – передразнил его Трифонов. – Трехони ее, бери под руку-то, подхвати!
Печкин рванулся к жене, но Софья Васильевна, словно опомнившись, схватила руку Нади и побежала вперед по извилистой дорожке.
– Не пойду! никогда! – крикнула она всей грудью, скрывшись за куст.
И тут настало общее смятение. Трифонов, Печкин и множество зрителей бросились вслед за подругами по узеньким и извилистым дорожкам, цепляясь за кусты, ломая сучья, и надо воем садом раздавались крики:
– А-га-а! «Ко-орку»!.. То-то я гляжу! Ай-да барыня!.. От мужа!.. Полюбился! Нет, по морде!..
– Домой! – вопил каким-то неестественным басом Печкин.
– Дурак! – слышался голос Трифонова. – Беги налево! Сволочь… Держи!.. Эй, молодец, захвати даму! бей в мою голову! Ничего, за косу… То-то «корку, корку»!.. Хе-е-е-е-е, бра-ат!..
– Домой!..
Долгое время множество народу вылетало на средину дорожки из боковых аллей, кричало, ругалось и снова исчезало в кустах и снова кричало… Софья Васильевна и Надя, бегом пробежавшие две-три улицы, пошли тише. Софья Васильевна едва двигалась, задыхаясь от испуга и быстрой ходьбы, и не могла произнести ни слова… Надя тоже молчала, но в уме ее еще как-то ярче вылетали слова: «Уйти, непременно уйти и – учиться, учиться, учиться!»
Так они пришли домой и больше уж не ходили к Уткину.
XII. Конец
Возвращаясь домой, Надя несла в душе какое-то серьезно-радостное ощущение. Виделось впереди не веселое, но умное и дельное.
– Ваня поправляется! – сказала ей мать. – Не знаю, что с ним, поднялся и сидит на кровати.
– И говорит?
– Говорит… Еле-еле!..
Какая радость в этой области смерти!.. У Нади радостно билось сердце при этой вести, хотя она сама не знала, почему.
– Господи! – сказала она, глубоко вздохнув и снимая шляпку, но, не кончив этого дела, вдруг почему-то принялась целовать у матери руки.
А мать стала плакать…
И никто из них не мог бы определить, почему все это делается?
Жизнь, жизнь пробуждается где-то около них… и сулит им что-то… тоже жизнь!..
Надя сбегала к Птицыным тотчас же; но ей сказали, что Ваня спит. Ей рассказали, что он устал сегодня: он требовал к себе свои инструменты, рассматривал ноты, бумажки, просил всё расставить по местам. Всё это исполнили. В полуотворенную дверь Надя видела спящего Ваню, около кровати которого на стульях стояла его скрипка без струн, валялись развернутые тетради нот… Как это было радостно! Поглядев, она ушла домой, долго не спала и встала рано.
День был чудный. Она тотчас пошла к Ване.
Он сидел на постели, худой, с ввалившимися глазами, с головой, при взгляде на которую воображению представлялся череп, с руками и ногами, напоминавшими не труп, а скелет…
– Цела? – едва говорил он матери.
– Цела, цела! – отвечала та, отирая тряпкой пыльную скрипку…
В груди Вани вместо ответа слышались рыдания без слез. Он несколько раз всхлипывал от избытка глубокой радости и каждую минуту готов был упасть в обморок…
Надя поддерживала его.
– Голубчик мой! – говорила она ему (хоть он и не узнал, кто она такая). – Все цело!.. Я все соберу!
– Bce, все цело! – говорила мать Вани. – Погоди, я вот отца приведу… Хочешь?..
Ваня долго рыдал, склонив голову на грудь и не отвечая на вопрос.
– Зе…млю!.. – наконец выговорил он и слабо, как мог, потянулся из рук Нади… – Зем-млю!..
– Что ему?.. – спрашивала Надя… – Землю?.. Какую землю?..
– Что тебе?.. – спрашивала мать.
– Ему землю хочется поглядеть! – сказала кухарка и вполне поняла мысль больного.
– Надо его поднять! – сказала Авдотья, – и к окошку поднести. Пусть поглядит на травку.
Все трое подняли его, худого, с пролежнями до кровавого мяса на всем теле, с неразгибавшимися коленями, и без особенного труда поднесли его к окну. Он рыдал без слез и стонал.
– Ну, вот, смотри, вот земля! – сказала ему мать. Все цвело и благоухало в глухой улице…
Ваня зарыдал.
– Зеленое!.. – пролепетал он.
И слезы, крупные, как градины, затопили его лицо, усы, рубашку… Все плакали…
Мокрая от слез, иссохшая рука Вани тянулась к подоконнику, как бы стараясь взять эту зелень в руки… Попросили прохожего нищего сорвать травку. Тот сорвал и подал Ване.
Ваня сжал траву в руках, – и буквально целое море слез затопило его лицо.
Все рыдали тихонько. Вошел старик отец и, едва взглянув на сына, тоже заплакал…
Глаза Вани были закрыты, руки сжимали траву… Лились слезы, рыдания, и стояла тишина.
Ваня умирал.
Через минуту узнали и увидали, что он умер…
Мертвого, с мокрым от слез лицом, его положили на постель… Трава с корнями, осыпанными землей, была в его руке…
Какие это были чудные минуты для всех, кто только ни был тут, кто мучил и мучился, кто желал страдать и страдал сам!.. Это были слезы людей, убежденных, что они ужасные грешники, и узнавших хоть на одну минуту, что они ни в чем не виноваты… Жизнь вспомнилась вся, своя и чужая, вспоминалась целиком и вызывала только горячие рыдания.
Все это старое, погибающее, проживши не один десяток лет, не имело и не могло иметь другой, более пленительной, более чистой минуты!
* * *Но минута эта кончилась очень скоро. Похороны Вани вытащили на сцену рассуждения о расходах, о скупости генерала, снова раздались упреки в том, что он спрятал деньги, что уморить человека он умел, а когда пришлось хоронить этого человека – стал упираться. Несмотря на всевозможные усилия генеральши похоронить Ваню как генеральского сына, несмотря на всевозможные крики и проклятия, которыми был осыпаем генерал Птицын, похороны были самые беднейшие и жалчайшие. – Все нищее, что привыкло не стесняясь плакать, идя за таким неказистым, простым деревянным гробом, как тот, в котором лежали кости Вани, все тронулось за ним большою рваною бедною толпою и плакало, не надеясь даже получить за это кусок какого бы то ни было пирога.
Какая мертвая тишина стала в нашем углу после смерти и похорон Вани!
Чтоб уйти от угнетающего смысла этой тишины, Надя забрала с собою к матери все книжки, все тетради Вани. Целые дни роется она в них, откладывая из массы хлама, в котором не последнюю роль играют «Таинственные монахи», «Кузьмы Рощины»[9], проповеди «о грибной пище», арифметику, географию… Она усердно учится и читает, но в то же время какая-то неотразимая сила все сильней и сильней побуждает ее убежать отсюда. Она очень хорошо знает, что надо учиться, трудиться, знать, а вместо того хочется бежать. Смерть разоренного угла до того ясна, до того на каждом шагу доказательна, что Наде хочется нового места, чтоб иметь возможность свободно думать о новом, не похожем на отжившее, будущем…
Примечания
Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том первый. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.
Повести, составляющие цикл «Разоренье», были написаны в 1868–1871 годы как самостоятельные произведения и опубликованы впервые независимо друг от друга в журнале «Отечественные записки»: «Разоренье. Наблюдения Михаила Ивановича. Повесть первая» – 1869, №№ 2, 3; «Тише воды, ниже травы» – 1870, №№ 1, 3; «Наблюдения провинциального лентяя» – 1871, №№ 8, 10, 12.
В 1871–1873 годы Успенский после большой стилистической правки перепечатал эти повести с некоторыми купюрами в серии «Библиотека современных писателей», издававшейся А. Ф. Базуновым: «Разоренье» – в одноименном сборнике (1871), «Тише воды, ниже травы (Провинциальные заметки)» – в сборнике «Очерки и рассказы» (1871), «Лентяй, его воспоминания, наблюдения и заметки» – в одноименном сборнике (1873).
Судя по сохранившимся письмам Успенского, а также по ранним редакциям, повесть «Разоренье» представляла собой первую часть задуманного писателем большого произведения, «романа», как он его называл, о новой, пореформенной эпохе. Главным героем этого романа должен был быть протестующий рабочий. Однако трудности создания большого эпического произведения о современной действительности в переломный исторический период, цензурные препятствия и, наконец, материальная нужда, не дававшая писателю возможности длительно работать над своими произведениями, помешали осуществлению этого широкого замысла. Задуманный Успенским роман не был создан, а на материале, собранном для него, были написаны повести «Тише воды, ниже травы», «Наблюдения одного лентяя», лишь отчасти связанные с первоначальным замыслом.
В 1883 году при подготовке к изданию первого собрания сочинений Успенский объединил все три повести в один цикл, тем самым как бы частично осуществив свое намерение – создать широкую картину эпохи ««разоренья» старых порядков».



