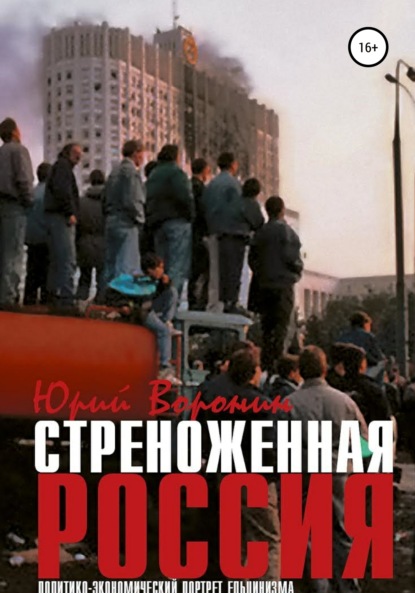 Полная версия
Полная версияСтреноженная Россия: политико-экономический портрет ельцинизма
В выступлении на заседании Президиума, о котором напомнил Дунаев, речь шла о том, что в недрах кремлевской администрации зреет конституционный заговор против Верховного Совета Российской Федерации. В нем принимает участие и верхушка силовых структур, в частности министр внутренних дел В. Ерин. А. Дунаев призвал тогда всеми доступными средствами разъяснять политическую линию Верховного Совета, проводимую им социально-экономическую политику и более полно и зримо откликаться на нужды народа, в том числе и армии. Если народ поймет, что Верховный Совет реально отстаивает его интересы, то никакие государственные перевороты не будут страшны России.
Мало кто поверил тогда А. Дунаеву. Такое обличительное выступление на Президиуме многие списывали на счет того, что он якобы вымещал свою обиду на Ельцина, который неправомерно освободил его от работы, поверив тем, кто «сфальсифицировал так называемое дело Баранникова – Дунаева», и, забыв фактически о той роли, которую последние сыграли в приходе к власти самого Б. Ельцина. И вот по прошествии двух месяцев Дунаев напомнил народным депутатам о своем предупреждении.
«Облеченные высшей государственной властью люди, – продолжил он выступление на Съезде, – попирая законы, Конституцию, совершили государственный переворот. Не последнюю роль в этом сыграл и бывший министр внутренних дел Ерин Виктор Федорович. Хотя я могу заверить Съезд, что подавляющее большинство личного состава органов внутренних дел относится к государственному перевороту отрицательно.
… В настоящее время сложилась исключительно сложная обстановка. Я стою здесь у вас на Съезде не под звуки победных фанфар. Предстоит всем нам, кто любит и верит России, нелегкое время. И вместе с вами я готов служить закону, России. Я полностью уверен в торжестве закона.
Ерин вчера послал в органы внутренних дел шифровку с требованием (прямо вот читаю вам это требование): "Не выполнять решения и указания Верховного Совета, исполняющего обязанности Президента России и его министра внутренних дел". Запретил встречаться личному составу с депутатами. Заблокировал здание МВД спецназом, отключил АТС-222 и 239 для того, чтобы сотрудникам нельзя было иметь связь с Верховным Советом и с народом.
Нет, господин Ерин. От правды сотрудников МВД не спрячете. Я обращаюсь к своим коллегам, сотрудникам органов внутренних дел: разберитесь, куда вас ведут. Не в малой степени судьба России зависит и от вас. Да и придется, видимо, отвечать и за бездействие сотрудникам органов внутренних дел, и тем более если будут допущены противоправные действия.
Я верю в разум сотрудников и в торжество законности. И готов к борьбе за это вместе с вами. (Аплодисменты.)»
Прошли годы. Я часто встречаюсь с А. Дунаевым, и он до сих пор корит меня за то, что мы, члены Президиума Верховного Совета России, не поверили тогда его предостережениям.
Но вернемся вновь к Съезду народных депутатов РФ. С точки зрения Конституции действия Съезда были правомерны. Однако российский обыватель многого не мог понять, и это в дальнейшем стало одной из причин его равнодушия. Для обывателя борьба за Конституцию и законность ассоциировалась с тем, что в стране появилось два президента, два «комплекта» силовых министров. Обыватель в своем подсознании увязывал сложившуюся ситуацию как двоевластие, которое, как помнилось по истории, характерно для времен гражданской войны.
Многие депутаты, защитники Дома Советов, задавали вопросы: почему, например, министром обороны А. Руцкой рекомендовал В. Ачалова?[218] На мой взгляд, по двум причинам. Вспоминаю одну из встреч начальника Генерального штаба Министерства обороны РФ М. Колесникова с Р. Хасбулатовым и А. Руцким, когда обсуждалась будущая военная доктрина России. Совершенно случайно возник вопрос о лидере среди руководителей армии. Все, и особенно Колесников, дали высокую оценку В. Ачалову – советнику по военным делам Председателя Верховного Совета. Многие также знали, что Д. Язов готовил Ачалова как преемника себе на смену. После августовских (1991) событий Генеральная прокуратура пыталась получить согласие парламента на привлечение его к уголовной ответственности за участие в «путче». Но, разобравшись, депутаты согласия не дали, здраво рассудив, что не меньшее, если не большее, участие в тех событиях принимал Грачев, разрабатывавший с группой спецов военную доктрину ГКЧП. Но, вовремя переметнувшись в противоположный лагерь, Павел Сергеевич удостоился поста министра обороны России.
Характеризуя П. Грачева, генерал В. Ачалов позднее с горечью скажет: «…какую пагубную роль сыграл (П. Грачев. – Примеч. авт.) для Вооруженных Сил, для страны и особенно – для Воздушно-десантных войск! Это первый министр, первый командующий, который стал главным разрушителем Вооруженных Сил и ВДВ, предал самое дорогое, что у него есть после матери, – своих друзей, своих однокашников и ту страну, которая присвоила ему звание Героя Советского Союза»[219].
Депутаты образовали рабочие комиссии для связи с москвичами (руководитель В. Агафонов), связи с регионами (Р. Абдулатипов), связи с зарубежными странами и парламентами (И. Андронов). Для обеспечения москвичей и жителей регионов информацией о ходе сопротивления мятежу депутаты образовали штаб, который поручили возглавить мне.
Съезд также утвердил председателем Комитета по вопросам обороны и безопасности контр-адмирала Равката Загидулловича Чеботаревского, председателем Комитета Верховного Совета по судебной реформе, законности и правопорядку Сергея Николаевича Бабурина, назначил Виктора Ивановича Илюхина специальным прокурором по расследованию обстоятельств государственного переворота.
24 сентября руководители субъектов Федерации (двух республик, трех округов, двадцати четырех областей) обратились с «Требованием…» к Федеральным органам власти. В нем, в частности, говорилось: «Субъекты Федерации, осуждая предпринятую попытку государственного переворота, выполняя волю населения и решения органов государственной власти, в целях защиты интересов народа, прав и свобод человека и гражданина требуют… от Ельцина Б.Н. отменить Указ № 1400 от 21 сентября, восстановить в стране в полном объеме конституционную законность… от Съезда народных депутатов РФ (при условии выполнения 1-го пункта) немедленно назначить одновременные всенародные выборы президента и парламента на 12 декабря 1993 г. или иные согласованные сроки, для чего обеспечить в двухнедельный срок принятие необходимых законодательных актов; от правительства РФ – отменить цензуру в СМИ, возобновить выпуск закрытых газет и журналов, прекратить блокирование объективной информации о положении в стране на радио и телевидении, предоставить эфир представителям субъектов Федерации для изложения позиций их органов власти и Верховного Совета».
А чем в это время занималось правительство, глава которого В. Черномырдин был обязан депутатам избранием на столь высокий пост? Сам он всецело оказался по другую сторону закона – в лагере путчистов. Именно по его инициативе было принято решение создать при правительстве штаб, которому вменялось в обязанность контролировать ход выполнения Указа № 1400 (антиконституционного!). Возглавить штаб согласился первый вице-премьер О. Сосковец. Человек прагматического склада ума, практик, в отличие от Е. Гайдара хорошо знающий отрасли промышленности, он не устоял. Видно, убоялся потерять высокое кресло, что позднее и сгубило его политическую карьеру. Да разве он один? Пожалуй, все министры поставили личную преданность выше закона и гражданского долга. В эти судьбоносные дни как нельзя нагляднее проявилась их антинародная, прозападная сущность.
Еще один президентский клеврет, В. Шумейко, уже 22 сентября пригрозил депутатам: не покоритесь – отключим водо-, тепло – и энергоснабжение. И на другой же день обещание было исполнено. Постарались и иные, оставив огромное здание без связи с миром. Гаишники блокировали все подъезды к Белому дому. Всяк стремился выслужиться перед низложенным президентом, верноподданически сгибая спину. А все вместе они становились сообщниками, участниками антиконституционного сговора.
Поразила многих, в том числе и меня, позиция вице-премьера Ю. Ярова[220]. В свое время он занимал активную позицию во фракции «Коммунисты России». Достаточно плодотворно работал он и на посту заместителя Председателя Верховного Совета. Мы с ним довольно часто, особенно по праздникам, встречались семьями. Иногда вместе с нами бывала и семья его друга, народного депутата РСФСР В. Варфоломеева, тоже ленинградца, председателя Комитета по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов.
Когда в январе 1993 г. началось формирование правительства В. Черномырдина, Ю. Яров попросил меня переговорить с Р. Хасбулатовым и новым премьером и рекомендовать его в правительство вице-премьером по вопросам социальной политики. Однако в переломный момент истории Ю. Яров не выдержал и бросился в ряды «демократов» и фактически стал соучастником государственного преступления – расстрела Верховного Совета и Съезда народных депутатов Российской Федерации.
Тихий перебег народных депутатов в стан Б. Ельцина продолжили В. Шумейко, В. Медведев, В. Волков и др.
С каждым днем все большую активность в поисках путей выхода из политического кризиса стали проявлять руководители субъектов РФ. 26 сентября в Санкт-Петербурге вновь состоялось совещание субъектов РФ. В нем приняли участие вице-премьер правительства РФ С. Шахрай и председатель Палаты национальностей Верховного Совета РФ Р. Абдулатипов. Представители субъектов РФ вновь предложили всем субъектам РФ способствовать выходу из кризиса путем одновременного проведения выборов органов законодательной власти и президента до конца 1993 г. В качестве первого шага было предложено приостановить действие актов федеральных органов законодательной и исполнительной властей, принятых ими, начиная с 20.00 21 сентября, и нормотворческую деятельность президента и Верховного Совета РФ по вопросам конституционной реформы до проведения новых выборов.
Таким образом, уже к 27 сентября 1993 г. сформировался достаточно широкий фронт политических субъектов, начиная от представителей субъектов Российской Федерации, ряда партий и движений центристской ориентации (ДПР, НПСР, СПТ, объединение «Предприниматели за новую Россию»), а также ряда корпоративных структур (РСПП, Федерация товаропроизводителей, ФНПР, Лига содействия оборонным предприятиям), заинтересованных в компромиссном способе разрешения политического конфликта. При этом постоянное апеллирование лидеров этих организаций к авторитету Конституционного суда и его председателя В. Зорькина, с одной стороны, и правительству РФ и его председателю В. Черномырдину, с другой, – показало, что представителями внеконфронтационных политических сил именно они рассматриваются как вероятные политические лидеры, способные обеспечить ненасильственный и взаимоприемлемый выход из кризиса.
Но, естественно, подобный сценарий не входил в планы Б. Ельцина и его окружения. Об этом неоднократно делал заявление сам Б. Ельцин. Его клевреты – вице-премьеры С. Шахрай и А. Шохин, Г. Бурбулис, председатель Центризбиркома Н. Рябов, руководитель администрации С. Филатов – крутились, как ужи, делая все, чтобы не навлечь на себя гнев «всенародно избранного». Некоторые из них понимали абсурдность искусственно созданной политической ситуации, видели реальный механизм выхода из кризиса, но не могли «разрулить» упертость Б. Ельцина.
27 сентября вице-премьер С. Шахрай на встрече с председателем Конституционного суда В. Зорькиным, комментируя итоговый документ встречи представителей субъектов Российской Федерации в Санкт-Петербурге, высказался, но весьма завуалированно: «Можно расценить как интересные предложения созвать Совет Федерации, предложение депутатскому корпусу передать право принятия решений по выборам Совету Федерации, а также рекомендации сторонам приостановить свои решения вернуться к ситуации 21 сентября».
Более откровенно обозначил формулу выхода из политического кризиса член Президентского Совета, руководитель Исследовательского центра частного права при президенте РФ, входивший в близкое окружение Ельцина, С.С. Алексеев, который 28 сентября в интервью прямо заявил: «Одновременные выборы могли бы стать настоящим "нулевым вариантом"». По его мнению, это стало бы полезным, во-первых, для того, чтобы в будущем «исключить потенциальное противостояние между парламентом и президентом», во-вторых, чтобы «президент имел такую же легитимность, как вновь избранный парламент». Плохо знал характер Б. Ельцина С.С. Алексеев. Последующие действия Б. Ельцина это подтвердили.
Итак, к 29–30 сентября переговорный процесс достиг своего пика. Руководители субъектов Российской Федерации (вместе с председателем Конституционного суда В. Зорькиным) стали переходить к конкретным действиям, активно включившись в качестве важной политической силы в противоборство властных группировок, начали перехватывать инициативу. Это уже было опасно для Ельцина и его сторонников. Требовались новые упреждающие меры.
Вечером 30 сентября 1993 г. я получил сообщение ИТАР-ТАСС: «"Восемь региональных встреч представителей местных властей с членами правительства необходимы для того, чтобы срочно посоветоваться и выработать общие позиции по выходу из создавшегося кризиса федеральных властей и подготовке к Совету Федерации", – заявил сегодня на пресс-конференции вице-премьер правительства России Ю. Яров.
Он сообщил, что проведет такую встречу в Санкт-Петербурге с представителями Северо-Западного региона. Премьер-министр В. Черномырдин будет представлять правительство в Самаре. С. Шахрай поедет в Новосибирск и Краснодар. Е. Гайдар «охватит» регион Дальнего Востока (на встрече в Хабаровске), О. Сосковец – Центральную Россию, О. Лобов – Уральский регион, А. Заверюха – Черноземье.
Говоря о ситуации, сложившейся вокруг Белого дома, Ю. Яров отметил, что там находятся «неуправляемые» вооруженные группы, которые не подчиняются никому, поэтому необходимо держать их в рамках, за которыми может последовать кровопролитие. Надо искать компромисс с оставшимися в Белом доме, заявил Ю. Яров. Но для этого им необходимо выполнить одно условие – сдать оружие».
Я часто задавал себе вопрос: что делал Ю. Яров, если бы его не рекомендовали в правительство, на чьей стороне он бы был? Думаю, он бы просто ушел из Дома Советов, как это сделали Н. Рябов, А. Починок, С. Ковалев, Г. Задонский, Б. Золотухин, С. Красавченко и другие.
Эту мысль подтвердил впоследствии народный депутат от Ленинградской области Владимир Петрович Ворфоломеев. Мы встретились с ним уже в 1994 г. на поминках председателя Комитета Верховного Совета по обороне и безопасности адмирала Р.З. Чеботаревского. В течение года, рассказывал В. Ворфоломеев, его никуда не принимали на работу. Обратился он за помощью к Ю. Ярову, которого считал своим другом. Последний «мягко отклонил» просьбу, ссылаясь на то, что после октября 1993 г. ему неудобно решать такие вопросы. «После этого, – закончил Владимир Петрович, – меня с Яровым больше не соединяли».
Как же стыдно было многим, с кем мне пришлось встречаться через 2–3 месяца после событий «горячей» осени 1993 г.! Каждый называл свою причину: да, мы все понимали, были на стороне Верховного Совета, но что мы могли сделать, ждали (а точнее – выжидали! – Примеч. авт.) – вот типичные ответы. Многих чувство внутренней вины гложет и гложет до настоящего времени. И чем дальше события трагической осени 1993 г. будут отходить в прошлое, тем сильнее чувство вины тех, кто в тот ответственный момент смалодушничал, фактически предал Родину, своих близких.
Но и в те дни среди членов правительства нашлись люди чести и совести. Так, министр внешнеэкономических связей С. Глазьев в знак протеста против незаконного Указа № 1400 ушел в отставку. Человек твердых убеждений, приверженец социалистических идеалов, его авторитет в российском обществе высок как никогда.
Шантаж, угрозы, подачки, непрекращающиеся провокации, меры морально-психологического давления на народных депутатов ото дня ко дню усиливались. Но Съезд продолжал свою работу. 27 сентября в зале заседаний собрался 571 народный депутат. Выступая с анализом ситуации, рассказал о тревожной обстановке вокруг Белого дома (журналисты оппозиционных газет дружно предложили именовать так с момента переворота Дом Советов), сообщил депутатам, что еще ночью поступила информация о готовящемся захвате здания. В ноль часов было передано обращение А. Руцкого и Р. Хасбулатова к гражданам, правительствам, парламентам и народам мира. Мы предпринимали все меры, чтобы не допустить кровопролития. В 2 часа ночи мотострелковый полк Руцкого приступил к охране здания Верховного Совета. Было выставлено боевое охранение в каждом подъезде, на всех этажах, лестничных переходах. Владислав Ачалов получил сведения, что на помощь защитникам Дома Советов прибыл отряд «Днестр» из Приднестровья. На сторону Верховного Совета перешла группа московских омоновцев. Весточку со словами поддержки в 3.15 утра прислали моряки Северного флота. По сообщению депутата В. Югина, «трудовой Ленинград» поднимается на защиту попранной Конституции. Председатель Совета Национальностей Р. Абдулатипов рассказал о совещании субъектов Федерации в Санкт-Петербурге, которое тоже осудило переворот.
Людская сопричастность и солидарность ободряли народных депутатов и работников заблокированного Дома Советов, куда не пропустили даже машину с продуктами, посланную Московской Патриархией.
Расскажу об одном драматическом моменте тех дней. Наверное, не было ни одного заседания, на котором бы не возникал вопрос об отставке правительства и его ответственности. Вспоминаю, с каким жаром и страстью просили включить этот вопрос в повестку дня депутаты оппозиции Ю. Слободкин, Г. Саенко, З. Корнилова. В том, что этот острый вопрос не попадает в повестку и не выносится на обсуждение Съезда, многие видели нерешительность руководства Верховного Совета. Наконец, депутат Илья Константинов на вечернем заседании 27 сентября заявил прямо и жестко: почему до сих пор не дали оценку деятельности Совета министров и его председателя, почему не поставлен на голосование вопрос о недоверии Черномырдину, почему Совет министров в полном составе не отправлен в отставку как соучастник государственного переворота? Думаю, решение не рассматривать вопрос о правительстве было связано со стремлением «не обострять до конца» и без того сложную и взрывоопасную ситуацию с надеждами направить премьера на путь конституционной законности. Если бы знали депутаты, как поведет себя В. Черномырдин 3–4 октября 1993 г., действия их были бы более однозначны.
Попытки оттянуть от Съезда народных депутатов, стремление «купить» их особыми привилегиями проводились в стенах Дома Советов ежедневно и ежечасно, все более активно и изощренно, вплоть до провокаций.
30 сентября 1993 г. Б. Ельцин подписывает два указа: «О повышении должностных окладов работников представительной и судебной власти, прокуратуры Российской Федерации» и «О повышении размеров социальных пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и другим категориям граждан», которыми готовил общественное мнение к предстоящему расстрелу Верховного Совета и Съезда народных депутатов Российской Федерации.
Давление со стороны ельциноидов на народных депутатов, сотрудников Дома Советов, шантаж, различные «утки» нарастали. Ничего удивительного нет, коль их готовили «специалисты» своего мерзкого дела: Э.М. Аметистов, Г.Э. Бурбулис, Г.А. Сатаров, Л.В. Смирнягин, С.А. Ковалев, С.Н. Красавченко, Э.А. Паин, Л.Г. Пихоя, М.А. Федоров.
В один из вечеров ко мне в кабинет пришли Е.В. Савостьянов (в то время – начальник управления КГБ по Москве и Московской области, с лейтенанта в запасе произведенный в генерал-майоры) и Н.Н. Гончар (председатель Моссовета). Переговорили о ситуации в Доме Советов, путях и возможностях мирного выхода из затянувшегося политического кризиса. В конце беседы Е. Савостьянов и Н. Гончар высказали предложение о целесообразности замены Председателя Верховного Совета РФ чеченца Р. Хасбулатова на русского. Российский народ якобы негативно воспринимает, что парламент страны возглавляет чеченец. Что Ельцин никогда не сядет за стол переговоров с Р. Хасбулатовым. Эта замена якобы будет позитивно воспринята в обществе и позволит перейти к конструктивному диалогу с командой Ельцина. В качестве кандидатуры на замену предложили меня, заметив, что я пользуюсь авторитетом у народных депутатов и что якобы многие депутаты, с кем встречались до нашей встречи Е. Савостьянов и Н. Гончар, одобрительно относятся к такому шагу и моей кандидатуре.
Мне пришлось долго убеждать посетителей, что подобный шаг, подобное предложение – это очередная игра Ельцина и его команды, что президент никогда не пойдет даже на временное сохранение Съезда народных депутатов и Верховного Совета, ему нужна авторитарная власть, ради которой он пойдет на все и до конца. Я в категорической форме отказался от подобного коварного предложения.
Как же мне впоследствии было противно читать лужковскую белиберду, когда тот писал, что «первая задача Воронина – сместить Хасбулатова с кресла спикера и занять его место»[221]. С другой стороны, многие народные депутаты – С. Бабурин, Б. Исаев, Г. Саенко, Н. Павлов и другие, собираясь уже после событий сентября – октября 1993 г. на Ассоциацию депутатов России, постоянно меня корили за то, что я отказался в тот период от «предложенного варианта выхода из политического кризиса».
В орбиту провокации, как позднее говорили многие народные депутаты, попал в то время не один я.
Вот что рассказывал народный депутат Иона Ионович Андронов. На удочку ельцинских провокаторов поддался Вениамин Соколов[222], председатель парламентской палаты Совета Республики. В. Соколов, свидетельствует И. Андронов, попытался использовать путч Ельцина для своего синхронного мини-путча внутри Белого дома. «Вербуя заговорщиков, – продолжает И. Андронов, – В. Соколов вкрадчиво обратился ко мне:
– Руководство Верховного Совета (как будто сам не входил в состав руководства. – Примеч. авт.) теперь на стадии распада и не может в противоборстве с Кремлем сохранить парламент. Необходимо срочно сменить наше руководство.
– Кому же по силам возглавить Верховный Совет? – удивился я.
– Я готов к этому, – произнес твердо В. Соколов.
– Как же вы сумеете получить власть над парламентом?
– Власть не получают, ее берут…»
В. Соколов плел интриги в Белом доме, повествует далее И. Андронов, будучи в тайном альянсе с Кремлем, контактировал с тогдашним любимцем Б. Ельцина министром С. Шахраем и главой администрации С. Филатовым. Действовал С. Шахрай с ведома Б. Ельцина и даже предложил устроить негласное свидание В. Соколова с президентом. Заговорщики почти все согласовали, но понимали, что сместить Председателя Верховного Совета был полномочен только Съезд народных депутатов. И вот Десятый чрезвычайный (внеочередной) Съезд народных депутатов собрался 23 сентября 1993 г. Можно было перейти к решению кадрового вопроса…
Об интриге вокруг поста Председателя Верховного Совета в блокадном Доме Советов, о котором рассказывает И. Андронов, свидетельствует и такой факт. Как известно, в Белом доме все телефоны были отключены с первых же дней, в том числе (и в первую очередь) у руководства Верховного Совета. Только один руководитель имел телефонную связь с президентской администрацией… В. Соколов. Вот как комментирует это тогдашний руководитель Администрации Президента С. Филатов: «Мне передали записку из Белого дома с просьбой Соколова включить ему там телефон. Было написано: "Прошу включить телефон в задней комнате, поскольку разговаривать из моего кабинета я не могу, так как нахожусь под наблюдением". Телефон был включен незамедлительно!»
Вернемся к Съезду народных депутатов и покажем, как развивалась интрига Вениамина Соколова – Сергея Филатова. Работа Съезда подходила к концу, все основополагающие конституционные вопросы им были рассмотрены. Было два возможных варианта. Один из них сформулировал В. Исаков: «Остаться здесь (в Доме Советов. – Примеч. авт.) до конца разрешения политического кризиса по своей воле». Другой вариант высказал С. Бабурин: «Съезд должен завершить работу, передав свои полномочия Верховному Совету».
И в этот критический момент попросил слово Председатель Совета Республики В. Соколов. Приведу выдержки из его выступления по стенограмме Съезда: «В состоянии ли нынешнее руководство Верховного Совета обеспечить взаимодействие и практическую деятельность в нынешних реальных условиях? На этот вопрос, к сожалению, я отвечаю отрицательно. Думаю, Руслан Имранович заслуживает нашей благодарности и признательности за многое из того, что он сделал за последние полгода… Но вот в этой ситуации, полагаю, возможности Руслана Имрановича исчерпаны, и не только его».
«– В каком случае мы можем рассчитывать на поддержку и сочувствие народа? – продолжал В. Соколов. – Только в одном случае: если не ограничимся тем решением, которое сегодня приняли, – провести одновременные выборы при выполнении соответствующих условий…



