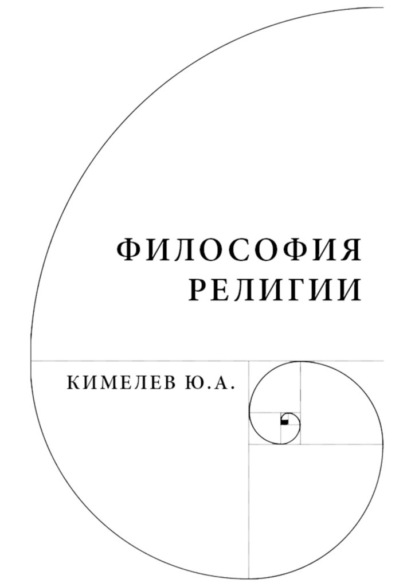
Полная версия:
Философия религии. Систематический очерк
– Общей характеристикой всех разновидностей религиозного опыта, мистического в том числе, является осознание постигаемой в опыте реальности как высшей или божественной реальности. Какой же предстает реальность в мистическом опыте?
Казалось бы, вопрос этот излишен, поскольку в большинстве мистических свидетельств воспроизводятся представления о реальности тех религиозных традиций, которым принадлежат авторы этих свидетельств. Можно поэтому говорить только об особом мистическом опытном постижении – «единящем», «экстатическом», «интенсивном» и т. п. – божественной реальности, какой ее знает та или иная религиозная традиция.
– Перед нами открываются следующие возможности. Первая заключается в признании только что описанной позиции как единственно возможной. Соответственно, мы будем иметь дело исключительно с «христианским», «исламским», «адвайтистским», «махаянистским» и т. п. мистицизмом, а реальность, какой ее нам представляют мистики, будет в общем совпадать с фундаментальными онтологическими доктринальными положениями указанных традиций. Вторая возможность состоит в том, чтобы попытаться выявить некоторые общие моменты в свидетельствах о Высшей Реальности, которые предлагают нам мистики. При этом не ставятся под сомнение сами свидетельства, а лишь предпринимается попытка некоторого обобщения. Искомое обобщение носит при этом характер типологизации.
Третья возможность – попытка указать в контексте изучения и осмысления мистического опыта на существование некоей единственной и единой высшей божественной Реальности, различно предстающей в различных религиях вследствие слабости и неадекватности человеческих возможностей восприятия и постижения этой Реальности.
– Указанные нами возможности представляют и основные позиции в понимании соотношения мистицизма и религии. В соответствии с первой позицией существует только мистицизм как особая форма религиозной жизни той или иной конкретной традиции. Всякое провозглашение всеобщего мистицизма в соответствии с такой позицией не имеет под собой реальных оснований. При изучении мистицизма такая позиция проявляется в утверждениях о неправомерности концептуализации «универсального мистицизма». В связи с этим подвергается сомнению и правомерность сравнительного изучения мистицизма. Утверждается, в частности, что общие феноменологические характеристики требуют такой спецификации применительно к конкретным традициям, что в этом процессе вообще исчезает содержание этих характеристик и категорий.
Сторонники такого воззрения считают, что есть только мистицизм конкретной религиозной традиции, что повторяющиеся в различных описаниях характеристики неправомерно считать универсальными характеристиками. Их следует, как утверждается, воспринимать сугубо контекстуально, как значимые лишь в определенной культурно-религиозной среде, поскольку значения слов, используемых в описаниях, определяемы только контекстуально. В каждой традиции язык специфичен, он невзаимозаменяем с другими. Мы имеем дело с языками, и только с языками.
В соответствии со второй позицией мистицизм относительно автономен по отношению к религиозно-культурным традициям. При изучении мистицизма можно поэтому в свидетельствах о мистическом опыте выявить содержательные моменты, которые, с одной стороны, не совпадают с мифологическими, доктринальными, этическими и т. д. компонентами той или иной религиозной традиции, а с другой – являются общими для таких свидетельств, относящихся к разным эпохам и культурам. Соответственно возможны универсальные определения, установление набора общих характеристик, создание межкультурной типологии мистического опыта. Это делается, даже невзирая на то, что в таких высказываниях преимущественно воспроизводятся доктринальные утверждения той или иной религиозной традиции. По-видимому, это возможно потому, что в описаниях мистически постигаемой реальности наряду с доктринальными высказываниями присутствует сходная метафорика «высоты», «глубины», «центра», «ночи», «мрака», «слепящего» или «невыносимого» света, «тишины», «молчания» и т. п. Кроме того, и в высказываниях, в общем вписывающихся в доктринально-ортодоксальный контур какой-то традиции, есть содержание, которое позволяет говорить об известном «зазоре» между устоявшимся каноном этой традиции и конкретным опытом того или иного мистика. Все это и наталкивает на мысль о возможном совпадении представлений о мистически постигаемой реальности у представителей различных традиций.
Установление определенных общих моментов в свидетельствах о высшей божественной Реальности, предстающей мистикам, по существу, не перечеркивает первой возможности. Указание на некие общие характеристики в свидетельствах мистиков о высшей Реальности позволяет как минимум приверженцам конкретной религиозной традиции четче осознать свои фундаментальные верования, а возможно, и продвинуться дальше в их понимании благодаря более глубокому осмыслению их уникальной специфики.
А реализация третьей из указанных выше возможностей теснейшим образом связана с реализацией второй. Ведь именно разработка межрелигиозной типологии мистического опыта и конкретно выделение в отдельный вид некоего «сырого», «изначального» опыта, в котором будто бы отсутствует, в числе прочего, и все, что связано с конкретными религиями, открывает путь к представлениям о существовании единой и единственной божественной Реальности.
– Таким образом, в известной мере упрощая ситуацию, мы можем сказать, что вторая из выделенных нами возможностей осмысления высшей божественной Реальности, какой она предстает в мистических свидетельствах, служит условием возможности реализации двух других. В связи с этим мы уделим ей преимущественное внимание.
Перед нами прежде всего стоит задача проанализировать те типологии мистического опыта, что были разработаны в философии религии на компаративистской основе.
Одну из первых и оказавшуюся наиболее влиятельной разработку подобной типологии предпринял Рудольф Отто. Отто различает «два мистических пути»: мистицизм «внутреннего видения», «погружения в себя» и мистицизм «видения единства». Первый путь характеризуется так: «Отвращение от всего внешнего, уход в собственную душу, в ее глубину, знание о таинственной глубине и знание о возможности вернуться в эту глубину, войти в нее. Мистике этого первого типа присуще погружение, а именно погружение в себя, с тем чтобы во внутреннем прийти к прозрению, найти здесь или бесконечное, или Бога, или брахмана”2.
Второй путь Отто называет «видением единства». Вещи и процессы мира здесь уже не многое, разделенное, разорванное, но каким-то образом все, целое, единое. Каждое с каждым и все со всем тождественно. При этом вещи претерпевают преображение, они становятся прозрачными, светящимися и «визионерскими». Происходит отождествление не только вещей, но и созерцающего с созерцаемым. Но это отождествление отлично от отождествления при первом пути, поскольку еще не идет речь о «душе» и ее единении с высшей реальностью. При характеристике второго пути ключевым словом является «единство». «Не душа, внутренний человек, атман, брахман или божество и не сат или бытие, но единство».
Уолтер Стейс3, по сути дела, воспроизводит типологию Отто. Он различает две категории мистицизма: «экстравертивный» и «интровертивный» типы. Первый тип обозначает мистическое слияние с природным миром, а второй – достижение мистиком какого-то бессодержательного, недифференцированного состояния как опыта «Единого». Второй тип мистицизма Стейс оценивает выше.
По Стейсу, экстравертивный мистицизм характеризуется следующими моментами: 1. Все феноменальные объекты воспринимаются как нечто единое; они сохраняют какие-то феноменальные признаки, но при этом воспринимаются как тождественные или как укорененные в лежащем в их основе единстве. 2. Воспринимаемый мир предстает как живой, сознательный или как укорененный во всеобъемлющей жизни и сознании. Интровертивный мистицизм – это сознание единства, но сознание, совершенно лишенное обычного содержания. Испытываемое единство – единение с нирваной, Богом, всеобъемлющим «я». Интровертивный мистик не ощущает пространства и времени.
Наряду с Отто и Стейсом наибольшую известность в области изучения мистицизма получили работы Р. С. Зенера4. Отвергая распространенное представление о том, что мистицизм всегда и везде один и тот же, Зенер выделяет следующие радикально различные типы мистицизма: паненгенический, монистический и теистический. Паненгенический (все во всем) мистицизм – это опыт мистического единства с природой, космосом. В этом виде опыта мистик осознает всю природу как нечто, содержащееся в его душе, или, наоборот, осознает себя как растворенного в природе. Преодолено пространство и время, мир предстает в неописуемой красоте. Индивидуальная душа возвращается к состоянию изначальной невинности.
Монистический мистицизм – это опыт «недифференцированного единства», в котором преодолевается пространство и время, а главное, в отличие от паненгенического мистического опыта, исчезает всякая определенность чего-либо.
Теистический мистицизм означает погружение души в «сущность Бога», в котором полностью исчезают – или мистику так кажется – индивидуальная личность и весь объективный мир. Таков по преимуществу христианский и исламский мистицизм, а также мистицизм Бхагавад-гиты. Происходящее или происшедшее с ним в опыте воспринимается теистическим мистиком как следствие действия Бога, особо благосклонного к нему. Кроме того, в теистическом мистицизме важную роль играет мотив любви к Богу.
Выделение теистического мистицизма в самостоятельный тип вызвало широкий резонанс в современной философии религии. Как известно, отношение к мистицизму в монотеистических традициях всегда было настороженным. Мистицизм представлялся несущим угрозу религиозного анархизма, нередко отождествлялся с пантеизмом, с самообожествлением. Христианские церкви опасались, кроме того, что он имеет антитринитарные тенденции.
Указанные классификации мистического опыта определили характер исследовательской работы в данной области. Все дальнейшие усилия свелись к защите, уточнению и критике указанных классификаций.
Так, Филипп Олмонд отмечает, что выражение «мистический опыт» охватывает два класса опыта. Во-первых, мы можем обладать опытом, в котором мир постигается как всеохватывающее единство, связанность, единость. То, что раньше казалось расчлененным, множественным и бессвязным, предстает как реально объединенное целое. «Этот вид опыта – различно называемый паненгеническим, экстравертивным, путем Единства – представляет специфическую версию того более общего способа религиозного восприятия, в котором «божественное», «трансцендентное», «реальное» воспринимаются посредством преображения повседневного мира нормального сознания”5.
Во-вторых, мы обладаем опытом, который совсем не включает «публичных явлений», мир выносится за скобки, и это происходит «внутри» индивида. Существуют значительные разногласия относительно этого внутреннего, интровертивного опыта. Такой опыт, как правило, является результатом созерцательного пути. Он дает знание о реальности «за», «вне», «внутри» публичных явлений.
Наиболее интересной и полной представляется типология мистического опыта, предложенная Уильямом Уэйнрайтом6. Он признает правомерность деления на экстравертивный и интровертивный мистицизм, но при этом считает, что любая адекватная типология должна признать существование нескольких типов экстравертивного мистического сознания и отличать монистический мистический опыт от теистического мистического опыта.
По Уэйнрайту, существует по меньшей мере четыре различных типа экстравертивного мистицизма. Объектом всех этих видов опыта является природа, внешний мир. 1. Ощущение единства природы и собственного тождества с ней. Это ощущение сопровождается ощущением преображения и (или) впечатлением вневременное™. 2. Ощущение природы как живого присутствия. 3. Ощущение, что все прозрачно относительно вечного настоящего. 4. Последний тип экстравертивного мистицизма связан с представлением о пустоте мира в мадхьямике.
Есть, по мнению Уэйнрайта, определенные основания считать, что существуют два различных типа интровертивного мистического сознания. Первый – опыт чистого, пустого сознания. Мистик отвращает свое внимание от внешнего мира и освобождает свое сознание от понятий и чувственной образности. Но он не погружается в бессознательность, а сохраняет сознание – сознание ничто. Опыт и его содержание представляют недифференцированное единство.
Второй тип можно описать как «обнаженное» и любящее осознание Бога. Здесь мистик отвращает внимание от внешнего мира и опустошает сознание. Но, в отличие от первого типа, этот вид опыта обладает иным объектом, хотя этот объект воспринимается смутно и нечувственно и его нельзя отождествить с чем-то в пространственно-временном мире или с этим миром в целом. Опыт, таким образом, носит скорее дуалистический, чем монистический характер. Отношения между мистиком и объектом его опыта в данном случае чаще всего выражаются посредством образности взаимной любви. В некоторых отношениях этот опыт подобен нуминозному, поскольку оба дуалистичны. В обоих случаях испытывающий обычно не использует понятия и образы, предполагающие личность объекта.
– Выделение в рамках разработки указанных типологий «монистического» мистического состояния создает, на наш взгляд, определенные условия для рассмотрения вопроса о существовании единой и единственной божественной Реальности.
И постановка этого вопроса, и попытки какого-то ответа на него имеют особый смысл в контексте рассмотрения мистического опыта. Объяснение этому следует, на наш взгляд, искать в том, что подлинно утвердительный ответ на вопрос о возможном единстве всех религий может заключаться только в обоснованном указании на существование одной-единственной божественной Реальности, будто бы лишь различным образом воспринимаемой, лишь различно предстающей различным людям в силу ограниченности их возможностей воспринимать эту единую и единственную божественную Реальность.
Монистический опыт предполагает непосредственное и не соотносящееся ни с чем сознание какой-то Реальности, предшествующей всякому различению субъекта и объекта. Некоторые мистики заявляют, что способны достичь такого состояния, в котором уже нет самосознания и сознания объектов, в котором устраняется всякое осознаваемое содержание – сознание различий между объектами восприятия, внутренних состояний, таких, как радость, сознание себя как отдельного бытия, объектов медитации как отличных от самого себя и, наконец, самого сознания. В конечном мистическом интуитивном состоянии все – прошлое, настоящее и будущее – объединяется в чистом сознании. В конечном итоге достигается чистое сознание, в котором забываются все категории, идеи и внешний мир.
Если подобное забывание и т. п. возможно и если мистик действительно может достичь состояния чистого сознания, в котором нет ни объекта, ни содержания сознания, то в таком случае этот опыт можно квалифицировать как испытание, соответственно опытное познание искомой единой и единственной божественной Реальности.
– Описательная характеристика религиозного опыта позволяет нам предложить определенную типологию этого опыта.
При классификации или типологизации религиозного опыта следует прежде всего исходить из характера божественной реальности, которая предстает субъекту опыта, следует исходить из того, что сам субъект опыта может каким-то образом тематизировать и даже определить это объектное содержание своего опыта. Этот критерий позволяет одновременно дать характеристику религиозного опыта по его принадлежности к той или иной религиозной традиции.
Итак, опираясь на указанный классификационный критерии, можно выделить следующие основные формы религиозного опыта: нуминозный, теистический и мистический. Каждая из этих форм может получать более дифференцированное осмысление. Кроме того, эти формы могут накладываться друг на друга, пересекаться друг с другом в конкретном религиозном опыте. Так, теистическому опыту присущи, как правило, многие моменты нуминозного опыта. В то же время можно в определенных случаях говорить о «теистическом мистическом опыте».
§5. Эпистемологический статус религиозного опыта
Мы выделили две основные задачи, или ориентации, философского изучения и осмысления религиозного опыта, каждая из которых складывается из определенного числа конкретных задач. В предыдущем параграфе была осуществлена описательная характеристика религиозного опыта, включая мистический опыт.
Сейчас мы приступаем к решению второй из выделенных нами основных задач – философско-эпистемологической оценке религиозного опыта, в том числе мистического опыта. Как и в случае с первой задачей, вторая складывается из ряда конкретных.
– Имеет смысл еще раз напомнить базисные теоретико-методологические особенности способов решения указанных задач, т. е. задач описательной характеристики и философско-эпистемологической оценки.
Объектом изучения может становиться лишь такой религиозный опыт, который стал публичным. Религиозный опыт, ставший публичным, – это религиозный опыт, который получил вербализацию, т. е. оказался облеченным в язык, а также получил тематизацию. Другими словами, объектом философского изучения может стать лишь тот религиозный опыт, который сам субъект опыта облек в язык, определенным образом описал и соответственно охарактеризовал.
– При решении первой из выделенных нами задач – описательной характеристики религиозного опыта – мы должны были исходить только из той вербализации и тематизации опыта, которые предлагают сами субъекты опыта. Исследовательская задача заключалась в «описании описания» опыта, которое предлагают сами субъекты опыта. Такое «описание описания» дает возможность, как мы видели, выделить определенные конститутивные свойства религиозного опыта, осуществить более рельефную тематизацию божественной реальности, какой она предстает в опыте, а также дает возможность разработать типологию религиозного опыта.
Аналитическое описание религиозного опыта содержит в себе, разумеется, определенное дистанцирование по отношению к непосредственному религиозному опыту. И все же такое дистанцирование по существу ничего не меняет в понимании религиозного опыта самими субъектами опыта.
Сказанное можно выразить и следующим образом. Вербализация и тематизация религиозного опыта субъектами опыта может быть названа его «интерпретацией», осуществляемой самими субъектами опыта. Философско-аналитическое описание религиозного опыта принимает поначалу интерпретацию этого опыта такой, какой ее предлагают субъекты опыта.
– При решении же второй – эпистемологической – задачи философия религии осуществляет «проблематизацию» той интерпретации религиозного опыта, которую предлагают сами субъекты этого опыта. Она осуществляет проблематизацию той интерпретации, которая содержится в опыте, инкорпорирована в него. По существу, это будет «интерпретация интерпретации».
Интерпретация религиозного опыта, присутствующая в нем самом, образующая часть его содержания, есть прежде всего наличествующее в опыте, инкорпорированное в него знание субъекта опыта о Боге, мире и самом себе.
Когда такая интерпретация проблематизируется, т. е. становится объектом философского рассмотрения, то соответственно объектом рассмотрения становится содержащееся в религиозном опыте знание. Философская проблематизация религиозного опыта и означает постановку проблемы эпистемологического статуса знания, инкорпорированного в опыт.
Вербализация и тематизация религиозного опыта его субъектом, в первую очередь тематизация божественной реальности, своего знания о ней, осуществляется только через соотнесение с наличными в данном социальном пространстве религиозными верованиями или представ в виде каких-то новаторских верований. Другими словами, верования являются, по существу, единственным средством интерпретации религиозного опыта.
В своей сути проблема отношения религиозного, в том числе мистического, опыта и его интерпретации – это проблема того, оказывает ли язык, которым пользуется субъект опыта, и интерпретация какое-то формирующее воздействие на сам опыт, или интерпретация является чем-то, что накладывается на опыт, высказывается о нем. Иными словами, следует ли религиозный, в том числе мистический опыт, рассматривать как какое-то «чистое» событие, получающее затем определенную вербализацию и интерпретацию, или понятийность, вообще содержание культурно-религиозной традиции изначально, «конститутивно» интегрировано в фактуру опыта.
Постановка этой проблемы открывает путь к установлению эпистемологического статуса знания, наличествующего в религиозном опыте и соответственно эпистемологического статуса этого опыта в целом.
Проверка правомерности знания, содержащегося в религиозном опыте, носит характер проверки того, может ли религиозный опыт сам по себе служить источником, причем надежным источником, того знания, что присутствует в опыте. Иными словами, установление эпистемологического статуса религиозного опыта означает проверку происхождения знания о божественной Реальности, как знания, даваемого именно опытом.
Подчеркнем еще раз, что установление эпистемологического статуса религиозного опыта осуществляется извне опыта, осуществляется фактически внешним философским наблюдателем. Для самих субъектов религиозного опыта, тем более субъектов мистического опыта, их опыт есть нечто совершенно достоверное во всех отношениях, в том числе он совершенно достоверен как знание о той божественной реальности, которая предстала в опыте. Для них религиозный опыт не может объясняться посредством естественных причин. Самое обозначение опыта как религиозного будет означать, что испытывающие обладают определенными верованиями относительно того, что они считают причиной своего опыта. Указание на причину образует часть описания опыта.
Но в таком случае религиозный опыт нельзя использовать для оправдания верования относительно существования этой причины. Сделать это означало бы прибегнуть к аргументации, движущейся по кругу: опыт является религиозным потому, что кто-то считает его причиной Бога, и в то же время человек на основании своего религиозного опыта полагает себя вправе считать, что Бог существует.
– Итак, в основу процедуры установления эпистемологического статуса религиозного опыта должна быть положена попытка ответить на вопрос о том, а способен ли религиозный опыт сам по себе служить источником содержащегося в нем знания.
Попробуем выработать определенную типологию подходов к проблеме эпистемологического статуса религиозного опыта, исходя из характера ответа на указанный вопрос.
Ответ может быть отрицательным. Отрицательный ответ может носить негативистский характер, так как отрицается вообще возможность того, что знание, присутствующее в религиозном опыте, может быть правомерным знанием.
Другой вид отрицательного ответа не отвергает возможность того, что это знание может быть правомерным, однако не видит надежного оправдания и обоснования того, что такое знание может дать опыт сам по себе.
Ответ может быть положительным. Содержащееся в религиозном опыте знание как знание, даваемое опытом, может получить оправдание. Поэтому положительный ответ на поставленный вопрос есть оправдательный ответ. Оправдание связано со стремлением показать, что религиозное знание может получать и оправдание опытом, и оправдание, или обоснование, и другими способами.
Суть различий между указанными подходами к проблеме философско-эпистемологического статуса религиозного опыта можно также представить следующим образом. Субъекты религиозного опыта понимают свой опыт как опыт «трансцендентного», «сверхъестественного» и т. п., понимают опыт как приобщение к божественной реальности, как восприятие этой реальности. И различия между критическим и оправдательным подходами в философии религии – это различия между отрицанием того понимания, которое есть у самих субъектов опыта, и оправданием правомерности такого понимания.
Далее, различие между философско-критическим и оправдательным подходами заключается в том, что первый ищет сугубо «естественные причины» возникновения и воспроизводства религиозного опыта, а второй стремится подтвердить правомерность того сверхъестественного понимания, соответственно объяснения, которое дают сами субъекты опыта. Продолжая, мы можем сказать, что приверженцы критического подхода считают свою задачу решенной, а объяснение – исчерпанным, если найдены «естественные причины». Приверженцы же оправдательного подхода не отрицают действия определенных естественных причин, но считают, что указание на действие естественных причин является указанием лишь на инструментальные или опосредствующие причины религиозного опыта.

