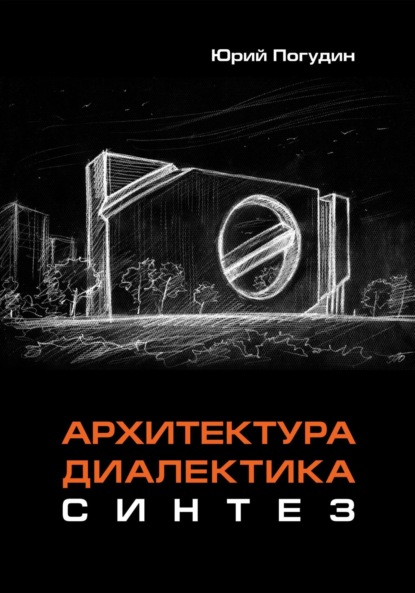
Полная версия:
Архитектура. Диалектика. Синтез
Другой пример синтеза – средневековый монастырь. Это и место жительства монахов, и оборонительная крепость, и перекрестие торговых путей, цель паломников, не говоря о само собой разумеющейся главной функции содействия спасению души.
Соответственно функциям общения (социально данное тождество), уединения (социально данное различие) и их комплексному сопряжению различаются пространства общения (гостиная, кухня и т.д.), пространства уединения (кабинет, спальня и т.д.), смешанные типы пространств. Заметим, что оппозиции идеальной – материальной функций и функций общения – уединения не коррелятивны и потому взаимно перекрещиваются в системе жилых пространств. Так, кабинет и спальня, противоположные по первой из указанных антитез, тождественны по второй в функции (уединения).
Следующая, не менее важная антитеза функциональной сферы, – это противоположность жилого пространства, места отдыха и пространства работы. В мегаполисах эта антитеза причиняет множеству людей дискомфорт от пространственного разрыва «спальных районов» и учреждений, предприятий, офисов, сгрудившихся в центральной части города.
Интересен синтез функций жилья и работы на уровне отдельных домов. Здесь опять вспоминается жившая и в Средневековье традиция размещения жилого помещения и помещения работы (на первом этаже) в одном здании. В современной архитектуре имеются примеры такого синтеза. Так, в Берлине построен комплекс вилл, каждая из которых «выполняет, помимо жилой функции, задачи элемента инфраструктуры. Достигается это тем, что каждую виллу заселяет предприниматель, чьё предприятие занимается обслуживанием населения и располагается оно в этом же доме <…>. Такой необычный для современного градостроительства приём обеспечения «соцкультбытом» по существу возрождает забытые сегодня традиции, когда купец жил над своей лавкой… Совмещение в одном корпусе жилья и места приложения труда выступает с одной стороны в качестве эффективного метода экономии городской земли, а с другой стороны позволяет воздвигать значительные строительные объёмы, несущие в себе репрезентативную сущность, важную для хозяина и обеспечивающую градостроительную значимость здания»33.
Внутри отдельного здания имеются ещё две важные антитезы:
1) Основные помещения – служебные, связующие (коммуникации – лифты, лестницы, коридоры и т.п.). Синтез между ними проходит на уровне эстетики, когда коммуникации не прячутся в толще здания, а выводятся наружу, участвуя в созидании художественного образа здания и давая возможность почувствовать его внутреннюю жизнь извне34.
В проекте нового города архитектора А. Сант’Элиа 1914 г. этот принцип доведён до предельного состояния: основу пространственной композиции детерминирует система коммуникаций. Примеры «умеренного» синтеза – здание театра в Ростове-на-Дону (архитектуры В. Щуко и В. Гельфрейх, 1930-1936), здание Госпрома в Харькове (С. Серафимов, М. Фельгер, С. Кравец, 1925-1928).
2) Обслуживающие помещения – обслуживаемые. Эта антитеза имела особенное значение в творчестве Л. Кана. Американский архитектор развивал тезис о разделении этих видов помещений. «Работа над небольшим объектом – бассейном – привела меня к теории, что обслуживающие помещения и обслуживаемые должны быть разделены. Такое подразделение стало основой всех моих планов»35.
Противоположный подход к решению внутреннего функционального пространства содержится в концепции другого знаменитого американского архитектора – Ф.Л. Райта. Он выдвинул тезис «единства внутреннего пространства»36.
С диалектической точки зрения возможен подход, не делающий отдельный акцент ни на единстве, ни на раздельности пространств здания, а следующий принципу единораздельности. Помимо чистой диалектики такое учение имеет глубинные основания в современном представлении о физической структуре пространства. Пространство создаётся светом, которому свойствен корпускулярно-волновой «дуализм» (можно сказать «синтетизм»). В зависимости от конкретных обстоятельств, свет ведёт себя то как частица, то как волна. Физический мир оказывается школой диалектики. Ведь частица есть не что иное, как вещественно данное тождество (как точка – тождество начала и конца), волна же в качестве протяжённости есть различие (как линия – различие начала и конца). Таким образом, физическое пространство есть единораздельная цельность. Это дополнительное основание для построения аналогичного учения применительно к функциональному пространству архитектуры.
Перечислим основные антитезы архитектурно-функциональной среды:
1) сакральное – обыденное;
2) пространства общения – уединения;
3) рабочее – жилое пространства;
4) связуемые – связующие помещения (коммуникации).
5) обслуживаемые (главные) – обслуживающие (подчинённые).
Эти антитезы в общих принципиальных чертах раскрывают диалектику функции. До сих пор мы рассматривали архитектуру преимущественно как ту или иную организацию пространства. Но пространство неотделимо от времени и от истории. Взятая с точки зрения временного становления архитектура открывает перед нами всю сложность исторических взаимоотношений старого и нового, прошлого и будущего. Вторая часть работы посвящена историческому становлению архитектурной формы.
Антитеза исторического пространства архитектурной формы
Антитеза нового и старого, с точки зрения архитектурной истории, есть антитеза традиционной и новаторской архитектуры, классической и современной, авангардной. В самой классической архитектуре есть противопоставление античности и средних веков. Каркасная система готического собора есть нечто радикально новое в сравнении со стоечно-балочной системой греков. «Классика» и «авангард» пронизывают всю историю архитектуры.
В архитектурном творчестве эта антитеза в своём непреодолённом виде породила два противоположных подхода к проектированию. В советской архитектуре ярким сторонником вырастания новых форм всецело на базе опыта прошлой архитектуры был И. Жолтовский. За принципиальное новаторство ратовали такие архитекторы, как К. Мельников, И. Леонидов. Так, «Леонидов резко отрицательно относился к архитекторам, для которых процесс творчества – это использование и переработка каких-то форм и деталей, уже созданных другими архитекторами. Он даже не признавал их подлинными архитекторами, так как, по его мнению, они не понимают смысла работы архитектора, делают архитектуру чисто внешне, а не изнутри, что не является настоящим творчеством. Они берут что-то готовое и из него компонуют вещи. Архитектором такого типа Леонидов считал И. Жолтовского, поэтому весьма критически относился к его таланту и манере творчества. Леонидов был убеждён, что красоту нельзя составить из элементов готовой красоты, а надо творить её заново. В этом он действительно кардинально расходился с творческой концепцией Жолтовского, который видел в наследии (то есть в созданном другими) неисчерпаемый источник композиционных идей, форм и деталей»37.
Уже в наше время о роли прошлого ярко высказался Фрэнк Гери: «Вы можете учиться у прошлого, но не продолжать быть в прошлом. Я не могу смотреть в глаза своим детям, если говорю, что не имею больше идей и вынужден копировать прошлое. Это всё равно, что сдаться и сказать, что у них нет больше будущего»38.
С целью сохранения связи с прошлым и при этом совершения движения в будущее, с целью исторической полноты и полноценности архитектурной формы необходимо соединить оба подхода в проектировании. Пример такого синтеза являет творчество петербургского архитектора Игоря Явейна. «Человек основательной эрудиции, Явейн хорошо знал и в течении всей жизни изучал историю мировой архитектуры <…>. Но когда он начинал проектировать, то не пользовался специальной литературой: он как бы начинал всё с нуля, без каких-либо прототипов и источников»39.
История архитектуры знает попытки синтеза «старого» и «нового» и на уровне целых течений. Одна из них – «уникальное и малоисследованное движение 1920-1930-х гг. – Ар-Деко. Это был феномен архитектуры «интегрирующего типа». Опираясь на новации пионеров новой архитектуры, Ар-Деко не порывало с историей». Но «оно было в известной мере продолжателем эклектики»40, по замечанию Ю.И. Курбатова, а потому и не просуществовало долго. Всякое эклектическое соединение недолговечно в силу внешнего характера сопряжения разных форм. Диалектика направляет нас в сторону сочетания самих принципов классического и авангардного формообразования в новые синтетические принципы.
Следует заметить, что «анализ средств и приёмов художественной выразительности новой архитектуры показывает, что многое в них не только имеет преемственную связь с прошлым, но и не выходит за пределы сложившихся стереотипов»41. Это говорит о том, что несмотря на визуальный разрыв между старой и новой архитектурами, между ними много общего на более глубоких уровнях, что даёт дополнительное основание утверждать возможность их синтеза.
Понятие истории не тождественно понятию преемственности. История шире, чем преемственность. История есть переплетение эволюционности и скачков. В сфере исторического пространства нам открывается та же диалектика континуальности – прерывности, что и в области физического и архитектурного пространств.
Примерами исторического сочетания в современной архитектуре служат новые постройки рядом со старыми. Благодаря пространственной близости эти разные сооружения за счёт контраста эффектно подчёркивают неповторимость друг друга. «Истинный эффект заключён в резкой противоположности; красота никогда не бывает так ярка и видна, как в контрасте»42 (Н.В. Гоголь).
Ярким примеров синтеза традиционной и новой архитектур является творчество японского архитектора К. Танге. Ученик Ле Корбюзье претворил старые японские традиции в ультра-новые архитектурные решения.
Очерки истории архитектуры по антитезам
В этом разделе автор в порядке экспериментально-исторических очерков предлагает посмотреть на историю архитектуры с точки зрения раздельных ракурсов, каждый из которых задан специфической и не сводимой на другие архитектурной оппозицией.
Кубичность – сферичность / прямолинейность – криволинейность
Сферичность относится к кубичности так же, как тождество относится к различию. Сферичность есть состояние формы, когда все части её так отождествлены, что уже невозможно выделить на поверхности формы никаких частей. Из отсутствия частей вытекает, что сферическая форма есть чистое тождество, не имеющее никаких внутренних границ. Шар для ползущего по нему муравья бесконечен, хотя и конечен для держащего его в руке человека.
Категория границы, геометрически модифицированная, есть ребро. Ребро – то, что расчленяет форму на явные части и делает её различённой. Форма, содержащая рёбра, и, следовательно, грани, с точки зрения эйдоса, есть различие. Это кубическая форма.
Итак, сферическая форма представляет из себя единую поверхность, в которой мы не можем выделить части (грани), так как не имеем рёбер (границ). Кубическая форма совершенно отчётливо составлена из нескольких ясно различимых поверхностей.
Синтезом сферичности и кубичности (гранности) является форма, содержащая в себе и сферичность, и кубичность. Такая форма, с одной стороны, сферична, обтекаема, не имеет граней, а с другой – расчленена на чёткие грани. Диалектика стремится сохранить предмет как целое и потому настойчиво напоминает, что в любом предмете любые его стороны, аспекты, предикаты и т.д. одновременно и тождественны, и различны. Предмет есть синтез своих сторон, свойств и т.д. в одной неразложимой ни на что единичности.
Предельными выражениями сферичности и кубичности в геометрической области являются соответственно шар и куб. Шар есть чистое тождество, так как обладает во всех своих точках одинаковой кривизной, и совершенно тождествен себе при любых пространственных положениях, абсолютно симметричен относительно любой оси, проходящей через его центр. Куб идеально выражает принцип гранности, так как все его смежные грани перпендикулярны. Перпендикулярность есть предельная степень различия двух и более прямых и плоскостей. Всякий другой угол между прямыми или плоскостями будет их сближением, в переделе стремящимся к полному совпадению элементов (при угле 0 или 180 градусов).
Дадим примеры синтеза куба и шара:
1) куб, выложенный из шаров или шар, составленный из кубов
2) прямой цилиндр, у которого высота равна диаметру основания (одна из его ортогональных проекций совпадает с проекцией шара (круг), а другая – с проекцией куба (квадрат)
3) восьмая часть шара – самый полный синтез (с одной стороны – точный куб, а с другой – точный шар)
4) всё бесчисленное количество сложных стереометрических фигур, имеющих прямолинейные и криволинейные поверхности
Антитеза сферичности и кубичности становится особенно насыщенной, когда мы берём её в мифологическом аспекте. Сферичность – свойство, непосредственно зрительно и мифологически приписываемое небу, о чём свидетельствует и такое устойчивое выражение, как «небесный свод». Свойством «шаровости» обладает как физическое, так и духовное небо. «…Мир бесплотных сил, или Небо, есть такой шар, который имеет окружностью прямую линию <…> Мы смотрим на Небо так, что между ним и нами – Солнце. Мы, следовательно, смотрим на Небо со стороны Бога. Вполне понятно, что оно представляется нам опрокинутой Чашей. Не потому Небо есть Чаша, что это так кажется нашему субъективному взору, но это так кажется нам потому, что Небо, в своей внутренней и объективнейшей сущности, есть не что иное, как именно Чаша»43.
Если небо есть чаша, то что такое земля? По принципу простой противоположности земля есть куб. По А.Ф. Лосеву, древнегреческие мыслители связывали стихию земли именно с кубом44. Тело – земное, земляное начало в человеке (Адам создан из земли), а потому «всё тело, составленное из отдельных членов, – квадратно»45. Тело квадратно не по внешнему виду, а по смыслу своего соотнесения с духом, выраженному геометрически.
Таким образом, внутри самой сферичной природы находим и сферичность (небо), и кубичность (земля). Соответственно этому членению в здании возникает антитеза верха и низа: крыши, осуществляющей взаимодействие дома с небом, и фундамента со стенами, определяющих взаимодействие с землёю. Нетрудно заметить, что большинство крыш и перекрытий в «старой» архитектуре разных стилей и эпох часто сферичны, шарообразны (купола, своды, конусы и т.д.). И Пантеон, и константинопольская София перекрыты сферической формой. Нижняя часть зданий решается наоборот как гранная, кубическая. Такое соответствие низа здания кубической форме, а верха – сферической, по-видимому, отчасти обусловлено и круглой формой головы человека – верхней части его тела. В древнерусской архитектуре на лицо прямая ассоциативная корреляция: купол – это шлем богатыря.
Антитеза «шара-куба» имеет глубокое философское значение. Она геометрически выражает смысловые противоположности «природа-техника», «небо-земля», «дух-тело».
Можно в связи с этим дать и классификацию архитектурных конструкций. Кубу соответствует ортогонально-параллельная конструктивная система – стоечно-балочная. Шару – арочная, сводчатая, оболочковая конструктивные системы.
Борьба кубичного и сферичного пронизывает историю архитектуры. В истории классической архитектуры наиболее ярко эти тенденции кристаллизовались в рациональности классицизма и эмоциональности барокко, ставшие разветвлением ренессансного синтетизма. Примером синтеза этих стилей является Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге.
В современной архитектуре эта борьба ещё острее, на основании чего А.В. Иконников утверждал, что «лишь в архитектуре ХХ в. возникли тенденции, ориентированные на какую-то одну из полярностей, всегда ранее выступавших нераздельно»46.
Кубическая форма часто входит в корреляцию с технической, а сферическая – с природной, бионической, хотя эта корреляция необязательна. Примером второго случая может служить архитектура Антонио Гауди. Одно из самых известных его произведений – Каса Мила в Барселоне (1902-1910) – характерно своей «природностью», плавностью линий, изгибов, текучестью формы. Это пример архитектуры модерна, тяготеющей к природным, криволинейным очертаниям.
В архитектуре Германии 1920-х гг. «борьба куба и шара» выразилась в противостоянии неопластицизма (Тео ван Дусбург, Пит Мондриан, Геррит Ритфелд) и экспрессионизма (Эрих Мендельсон, Ханс Пёльциг)47.
Данная антитеза прослеживается и в советской архитектуре – в различии методов проектирования конструктивистов и рационалистов. «Конструктивистские здания и в своей стилистике несут отражение ортогональных чертежей, в них мало пластики. Произведения рационалистов более пластичны, часто вообще нет таких фасадов, которые можно было бы проэскизировать в ортогональных чертежах»48.
Нетипичным конструктивистом является Иван Леонидов. «Ещё в конце 20 – начале 30-х годов Леонидов использовал в своих проектах наряду с прямоугольными призматическими объёмами формы с образующей кривой второго порядка, своды-оболочки…»49.
Относительно синтетичным течением в современной архитектуре стал экспрессионизм, один из представителей которого – Э. Мендельсон. «В отличие от ортогональных, монохромных решений модернистов, Мендельсон использует контраст ортогональных форм с криволинейными»50.
В истории архитектуры XXI века в целом просматривается сильный крен в сторону усложненных криволинейных форм, сопровождаемый критикой модернизма51.
Перейдем к следующему моменту архитектурной формы – к рассмотрению её уже не самой по себе только, но и в соотнесении с инобытием пространства.
Массивность – прозрачность / закрытость – открытость
Диалектика формы как таковой, самой по себе, обрисовывается антитезой «сферичность – кубичность». Следующим моментом логически последовательного мышления формы должно быть её соотнесение с пространством, причём такое соотнесение, когда нас интересует ещё именно сама форма. Этот момент раскрывается антитезой «массивность – прозрачность».
И здесь обнаружим три принципиальных соотношения формы и пространства – их тождество, их различие и, наконец, синтез.
Что такое тождество формы и пространства? Это значит, что пространство и форма сообщаются и взаимно проникают друг в друга совершенно беспрепятственно. Пространство и охватывает форму, и входит внутрь неё, а форма и пребывает в пространстве, и охватывает его. Такое возможно только в том случае, если форма мыслится неплотной и ничем не насыщенной, абсолютно прозрачной и проницаемой. Но ведь это значит, что форма представлена только одними своими очертаниями, границами, рёбрами. Это форма, построенная исключительно из рёбер, ничем не заполненная, кроме как пространством, ажурная и раскрытая внешним и внутренним проникновениям.
Еще раньше Н. Ладовского, сказавшего свой знаменитый афоризм52, мудрец Лао-Цзы подчёркивал, что значение здания – в пространстве для жизни и его насыщении. Пространство было господствующим элементом древней японско-китайской архитектуры, о чём подробно пишет Н. Брунов53. Так, японский и китайский дом-павильон организуют постепенный переход от массы здания к пространству природы – в противоположность идущему от дворцов Ренессанса резкому контрасту окружения и архитектуры.
В современной архитектуре слитность формы и пространства достигается средством перфорации формы и широким применением стекла. Прозрачное стекло есть единственный материал, позволяющий отождествиться пространствам и объектам с сохранением минимального различия. Стекло с зеркальными свойствами уже визуально не впускает среду извне внутрь, но позволяет растворять дома друг в друге. Среда теряет чёткие границы, образ её удваивается и удесятеряется многократными отражениями. Такое взаимопроникновение и взаиморастворение предметов друг в друге создает иллюзию преодоления тяжести и неподвижности вещества. Это мерцающая, пульсирующая среда, где формы смешиваются и окрашивают друг друга.
Второй тип соотношения формы и пространства есть различие. Взятое в своей предельной степени оно даст форму, отгороженную от внешнего пространства, замкнутую, закрытую, и, возможно, противопоставляющую себя окружению. Здесь прежде всего вспоминаются толщи египетских пирамид и стен романских замков. Это массивная форма.
Наконец, синтетическим способом взаимоотношения формы и пространства будет такая форма, которая и массивна, и ажурна одновременно. Она и раскрыта пространству, и имеет в себе изолированные области. В истории архитектуры есть примеры таких решений, почувствовавших силу сочетания противоположностей.
Антитеза «массивности – прозрачности» входит в корреляцию с антитезой взаимоотношения с ландшафтом. Открытость формы может означать связь не только с пустым пространством, но и с пространством, наполненным природными формами.
Вспомним заупокойный храм царицы Хатшепсут в Дейр-Эль-Бахри. Мощные динамичные пандусы постройки энергично переходят в уступы природных скал. Храм и чётко отличён от окружения мерным ритмом столбов портиков, и одновременно слит с ним – до буквальной врезки в скалу.
Из новой архитектуры можно привести как пример проект Н. Фостера Сайнсбери-центр в Норвиче (1977). Кроме прочих достоинств проекта, для нашей темы интересно то, что «с торцов огромное здание просматривается насквозь и как бы сливается с природой. С других точек зрения лаконичный абрис противостоит ей. Огромные обрамлённые фермами порталы торцов этого супершеда буквально распахнуты в природу. Они служат своего рода обрамлениями, кулисами прекрасных ландшафтных картин, и внешнее пространство как бы с гулом устремляется сквозь гигантское сооружение, сообщая его статике неожиданный динамизм».54
Неожиданные отождествления и синтезы массивного и прозрачного, архитектурного и природного продемонстрировал Жан Нувель в ряде своих работ. В Сохо-отеле на нью-йоркском Бродвее (2003) «прозрачное, полу- и вовсе не прозрачное рождают «эффекты транзитности», перехода одного в другое, в результате здание кажется то массивным, то проницаемым в зависимости от времени суток, погоды… – впечатление мгновенной дематериализации, появления и исчезновения материи.
Более изощренная ступень – растворение в ландшафте, природе… Музей древних культур на парижской набережной Бранли (2001) слит с экзотичным природным окружением, забываешь о его рукотворности… В музее Гуггенхайма в Токио (2001) архитектура вообще как бы поглощена природой – холм в цветущих деревьях, а выставочные пространства внутри, в складках рельефа маскируются витражи… Казавшаяся фантастической формула реализовалась: самой впечатляющей оказывается невидимая архитектура»55.
Две развитые нами антитезы сферичности-кубичности и массивности-прозрачности взаимно пересекаются в более широкой антитезе архитектурной формы и природной. В истории архитектуры действуют две противоположные тенденции. Одна стремиться cоединить архитектуру с ландшафтом. Образец синтеза дала всё та же японско-китайская архитектура, организующая сложную пространственную пропорцию: основное помещение здания соотносится с окружающим обходом, соединяющим его с внешним пространством, так, как всё здание в целом соотносится с садом, связующим дом и природу. И в архитектуре, и в саде господствует кривая линия.
Противоположная этому подходу концепция – контраст формы и окружения. Ей следовал, например, Иван Леонидов, считавший, что новый город (речь идёт о Магнитогорске) должен врезаться в зелёный массив, контрастируя с окружающей природой геометричностью своей планировки и ритмическим рядом стеклянных кристаллов многоэтажных жилых домов, господствующих над другими постройками, образующими рационально организованную сеть обслуживающих учреждений56.
Архитектура в этой концепции противопоставлена природе как нечто рациональное и упорядоченное – иррациональному и хаотичному. В этом противопоставлении выражена одна из сторон сущности архитектуры. Человек стремится преодолеть хаос природных сил, выкристаллизовать и укрепить некую твердыню в море круговращения и растекания природных явлений. «Город становится образом… мира, полностью созданного человеком, мира более рационального, чем природный… Рациональное мыслится как «антиприродное.»57 Показателен в этом отношении образ Петербурга. «Если взять старый Петербург, то культурный облик города – военной столицы, города-утопии, долженствующего демонстрировать мощь государственного разума и его победу над стихийными силами природы, будет выражен в мифе камня и воды, тверди и хляби (вода, болото), воли и сопротивления»58. Такое понимание архитектуры было очень характерно для эпохи Возрождения и утопий.



