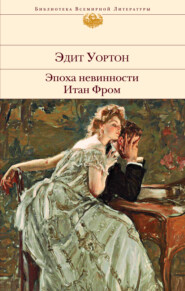скачать книгу бесплатно
– Ты и вправду думаешь, что это все Лоренс Лефертс затеял, и затеял намеренно? – спросил он, повернувшись к Арчеру.
– Определенно, сэр! В последнее время Ларри позволяет себе больше, чем прежде. Впутался, не при тете Луизе будь сказано, в эту неловкую историю с женой, кажется, почтмейстера в их поселке или еще с кем-то там, не знаю, с кем… Гертруда Лефертс готова теперь подозревать что угодно, и он, боясь последствий, затевает всю эту шумиху, чтобы продемонстрировать, как высоки его моральные критерии, и кричит, надрываясь, о неслыханной наглости тех, кто посмел пригласить его жену на вечер, где будут люди, которых он не желает видеть с ней рядом. Мадам Оленска он просто-напросто использует в качестве громоотвода. Я и раньше замечал за ним попытки проделать подобную штуку.
– Лефертсы! – молвила миссис Вандерлиден.
– Лефертсы! – эхом откликнулась миссис Арчер. – Что сказал бы дядя Эгмонт, видя, что Лоренс Лефертс судит людей, что Лоренс Лефертс распределяет их по рангам! Это лишь показывает, до чего докатилось Общество!
– Будем надеяться, что до этого оно все-таки не докатилось, – твердо заявил мистер Вандерлиден.
– Ах, если б вы с Луизой почаще бывали в свете… – вздохнула миссис Арчер.
И тут же поняла свою ошибку, так как Вандерлидены с особой болезненностью воспринимали критику своего уединенного образа жизни. Они являлись арбитрами и законодателями моды, судом последней инстанции и, зная это, покорялись такой своей участи. Но, как люди застенчивые и необщительные, не имеющие природной склонности влезать и участвовать в чем-либо, они старались жить, по возможности не покидая лесистую глушь Скитерклиффа, а уж если приезжали в город, то обычно отклоняли все приглашения под предлогом нездоровья миссис Вандерлиден.
Ньюленд поспешил прийти матери на помощь:
– Весь Нью-Йорк знает, кто вы и что собой являете вы и тетя Луиза. Вот почему миссис Мингот сочла невозможным не посоветоваться с вами насчет вопиющего оскорбления, нанесенного графине Оленска.
Миссис Вандерлиден посмотрела на мужа, а он посмотрел на нее.
– Я не в восторге от такой постановки вопроса, – изрек мистер Вандерлиден. – Покуда члена известной семьи семья его поддерживает, то все сомнения отпадают и никаких претензий быть не может. Точка.
– Я убеждена в этом, – сказала его жена так, словно ее вдруг осенила новая и свежая мысль.
– Не знал я, – продолжал мистер Вандерлиден, – что дела приняли такой оборот. – Помолчав, он вновь бросил взгляд на жену. – Мне кажется, дорогая, что графиня Оленска с нами как будто в родстве, через первого мужа Медоры Мэнсон. Так или иначе, на свадьбе Ньюленда присутствовать она будет. – И он повернулся к молодому человеку: – Ты читал сегодняшнюю «Таймс», Ньюленд?
– Да, сэр! – отозвался Арчер, который, просматривая газеты за утренним кофе, обычно отбрасывал, не читая, половину из них.
Супруги вновь переглянулись. Взгляды бледных глаз сомкнулись для продолжительной и серьезной консультации, а затем по лицу миссис Вандерлиден порхнула улыбка. По всей видимости, мужа она поняла и одобрила.
Мистер Вандерлиден повернулся к миссис Арчер:
– Хотел бы я, чтоб здоровье Луизы позволяло сообщить миссис Ловел Мингот, что мы с Луизой будем счастливы заменить чету Лефертс на ее обеде. – Он сделал паузу, дабы дать всем прочувствовать иронию такого предположения. – Но, как ты знаешь, это невозможно. – Миссис Арчер согласно и с сочувствием кивнула. – Однако Ньюленд говорит, что прочел утреннюю «Таймс», а раз так, то он, возможно, видел там сообщение о том, что на следующей неделе родственник Луизы граф Сент-Острей прибывает сюда на борту «России». Он хочет обговорить участие своей новой яхты «Гиневра» в ближайших всемирных летних гонках на кубок, а кроме того, собирается немного поохотиться в Тревенне, пострелять там уток. – И после новой паузы мистер Вандерлиден продолжил с еще большим благодушием: – А прежде чем проводить его в Мэриленд, мы пригласим нескольких друзей на встречу с ним здесь, в городе. Устроим маленький обед с последующим приемом. Уверен, что Луиза, так же, как и я, будет рада, если графиня Оленска позволит нам включить ее в число гостей. – Он встал и, наклонив в вымученно дружелюбной позе свое длинное тощее тело к кузине, добавил: – Думаю, что могу от лица Луизы заверить тебя, что приглашение на обед она доставит самолично и прямо сейчас, когда поедет на прогулку. Добавив к этому наши визитные карточки, конечно.
Миссис Арчер, понимая, что это намек на то, что не терпящие малейшего промедления рослые гнедые уже стоят в полной готовности у дверей, поднялась торопливо, бормоча благодарности. Миссис Вандерлиден светилась в ее сторону улыбкой Эсфири, которой удалось заступничеством своим прервать вечное странствие Агасфера?[22 - Эсфирь – библейский персонаж, защитница еврейского народа, добившаяся милости для него у персидского царя Артаксеркса (Книга Эсфирь). Агасфер (т.?е. Вечный жид) – символ рассеяния и неприкаянности евреев после разрушения храма.], но супруг ее поднял руку в протесте.
– Не за что благодарить меня, дорогая Аделина, совершенно не за что. В Нью-Йорке такого рода вещи не должны происходить и не будут происходить, пока я в силах этому воспрепятствовать, – с мягкой любезностью самодержца произнес он, провожая свою родню к дверям.
Два часа спустя все уже знали, что шикарную четырехместную рессорную коляску, в которой миссис Вандерлиден совершала прогулки в любой сезон и невзирая на погоду, видели возле двери Минготов, куда был доставлен и четырехугольный конверт, а вечером в Опере мистером Силлертоном Джексоном было объявлено, что в конверте находилось посланное приглашение графине Оленска на обед, который на следующей неделе устраивают Вандерлидены в честь приезда их родственника герцога Сент-Острея.
У некоторых молодых членов клуба это известие вызвало улыбку. Они искоса поглядывали на Лефертса, который как ни в чем не бывало восседал в первом ряду ложи и, когда сопрано запнулась, заметил, потянув себя за ус:
– Нет, «Сомнамбула»?[23 - «Сомнабула» (1831) – опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801–1835).] по зубам одной только Патти.
Глава 8
Общее мнение Нью-Йорка решило, что графиня Оленска «подурнела».
Ньюленду Арчеру она впервые явилась в его отроческие годы, явилась необыкновенно, ослепительно хорошенькой девочкой лет девяти-десяти. Про таких красоток говорят: «С нее бы картины писать». Родители ее были заядлыми бродягами и жили на континенте, нигде подолгу не задерживаясь. После скитаний с ними в годы детства она потеряла обоих родителей и была взята на воспитание теткой – Медорой Мэнсон, также склонной к постоянной перемене мест, но вернувшейся в Нью-Йорк с желанием «осесть».
Бедную Медору, чьи браки раз за разом оканчивались смертью мужа, постоянно обуревало желание «осесть»: потеряв очередного мужа, она возвращалась в Нью-Йорк (селясь в дома все более дешевые) и привозила с собой либо нового мужа, либо нового приемного ребенка, но по прошествии нескольких месяцев она расставалась с новым мужем или ссорилась с воспитанником и, продав себе в убыток дом, пускалась в новые странствия. Так как мать ее была урожденной Рашворт, а последний несчастный брак связал ее с одним из этих полоумных Чиверсов, Нью-Йорк прощал ей ее эксцентричность, относясь к ней снисходительно, однако, когда она вернулась, привезя с собой маленькую сироту-племянницу, чьи родители, несмотря на их прискорбную страсть к бродяжничеству, пользовались некоторой известностью, люди пожалели хорошенького ребенка, попавшего в руки такой воспитательницы.
Все были расположены к маленькой Эллен Мингот и добры к ней, хотя смугло-румяные щеки девочки и буйные завитки волос заставляли подозревать в ней некую скрытую веселость, неуместную в ребенке, которому полагалось бы еще оставаться в трауре по покойным родителям. Одной из особенностей беспутной Медоры было ее пренебрежение неизменимыми американскими правилами траура, и когда она по приезде сошла с корабельного трапа, семью шокировало то, что креповая ткань, в которую она закуталась в ознаменование траура по брату, была на семь дюймов короче, чем у ее золовки, в то время как малютка Эллен была наряжена в малиновое шерстяное платье с янтарными бусами поверх! Словно ее в цыганском таборе одевали!
Однако Нью-Йорк так долго смирялся, терпя причуды Медоры, что лишь немногие старые дамы покачивали головой при виде кричаще-пестрой одежды ребенка, все другие родственники подпадали под обаяние ее яркого лица и яркого жизнерадостного характера. Она была бесстрашной и раскованной, не стесняясь, задавала трудные вопросы, рассуждала не по летам умно и владела заморскими искусствами – например, умела танцевать испанский танец с шалью и петь под гитару неаполитанские песни. Руководимая теткой, в действительности звавшейся миссис Торли-Чиверс, но после получения католического титула вновь взявшей себе фамилию первого мужа и ставшей маркизой Мэнсон (потому что в Италии могла бы переделать фамилию в Манзони), девочка получила довольно приличное, но бессистемное образование, включавшее в себя и уроки «рисования с натуры», о которых в былые времена не смели и мечтать, и опыт игры на фортепьяно в составе квинтетов с профессиональными музыкантами.
Разумеется, ни к чему хорошему привести все это не могло, и когда через несколько лет бедняга Чиверс наконец скончался в сумасшедшем доме, его вдова (кутаясь в старинный наряд из какой-то причудливой ткани) в который раз поставила все на карту и отбыла вместе с Эллен, к тому времени превратившейся в высокую девушку, худую и глазастую. Какое-то время о них не было никаких известий, потом разнесся слух о браке Эллен с невероятно богатым и знаменитым польским аристократом, с которым она познакомилась на балу в Тюильрийском дворце и который, как говорили, владел роскошными резиденциями в Париже, Ницце, яхтой в Каусе и огромными охотничьими угодьями в Трансильвании.
Она исчезла, как бы скрылась в сернистом облаке на пике своего апофеоза, а когда через несколько лет Медора вновь вернулась в Нью-Йорк, подавленная, обнищавшая, в трауре по третьему мужу, и занялась поисками дома еще поменьше, все только и дивились, почему богатая племянница не может никак ей помочь. Затем долетела новость, что и у самой Эллен брак окончился полным фиаско и она возвращается домой, чтобы жить среди родни в покое и безвестности.
Все это вспомнилось Ньюленду Арчеру, когда неделей позже перед знаменательным обедом он наблюдал, как входит в гостиную Вандерлиденов графиня Оленска. Момент был исполнен торжественности, и он с некоторым беспокойством думал, как она это выдержит. Она явилась довольно поздно, на ходу рукою без перчатки застегивая браслет, но признаков торопливости или смущения при виде сливок нью-йоркского общества, так внезапно, с такой удивительной и даже специальной поспешностью призванных в эту гостиную, он в ней не заметил.
Находясь уже в центре гостиной, она огляделась, улыбаясь одними глазами, и он тут же мысленно отверг дружно вынесенный ей вердикт, утверждавший, что она «подурнела». Спору нет, лучезарная красота, которой она была отмечена в пору ранней юности, теперь померкла. Румянец сошел с ее щек, она похудела, стала тоньше и выглядела более усталой и немного старше своего возраста, колебавшегося, по-видимому, вокруг тридцати. Но некая тайная сила в ней по-прежнему присутствовала и ощущалась в гордой, уверенной осанке, в выражении глаз, ничуть не аффектированном, но говорящем о жизненном опыте и полном сознании своей власти. И в то же время держалась она проще, чем большинство присутствовавших дам, многие даже (как впоследствии рассказала ему Джейни) были даже разочарованы недостатком в ее внешности «стиля», а ведь «стиль» в Нью-Йорке ценится превыше всего остального. «Возможно, это потому, – размышлял Арчер, – что она утратила теперь детскую живость, присмирела, стала спокойнее, что чувствовалось в движениях, в речи, звуках негромкого голоса. От молодой женщины с такой историей Нью-Йорк ожидал чего-то более яркого и впечатляющего».
Дать обед такого рода было делом архисложным. Обеды у Вандерлиденов и вообще-то не отличались легкостью, а уж обед, устроенный в честь их родственника-герцога, проходил с торжественностью, уместной разве что на церковных церемониях. Арчер не без удовольствия думал о том, что только истинный уроженец Нью-Йорка способен уловить тонкую разницу между просто герцогом и герцогом – родственником Вандерлиденов. Заезжих аристократов Нью-Йорк воспринимал спокойно и даже (за исключением Стратерсов) с оттенком некоего высокомерного недоверия. Но обладателям таких верительных грамот, как наш герцог, Нью-Йорк раскрывал свои объятия со всею старомодной сердечностью, которую он ошибочно объяснял лишь положением гостя, определяемым его местом в справочнике английских родовитых семейств Дебретта. За умение разбираться в подобных тонких материях юноша и любил Нью-Йорк, хоть и посмеивался над ним.
Вандерлидены постарались сделать все возможное, чтобы подчеркнуть важность события. Были извлечены из глубины буфетной севрский фарфор Дюлаков и блюдо Георга II, принадлежавшее семейству Тревенна; к этому присовокуплялись львиная шкура Вандерлиденов (добытая через Ост-Индскую компанию) и фарфор «краун-дерби» Дагонетов.
Миссис Вандерлиден более, чем когда-либо, была похожа на свой портрет а-ля Кабанель, а миссис Арчер в бабушкиных изумрудах, окаймленных капельками жемчужинок, казалась ее сыну живой миниатюрой Исаби?[24 - Исаби Жан-Батист (1767–1855) – французский живописец и миниатюрист, писавший портреты видных деятелей разных эпох – Империи, Реставрации и Июльской монархии.].
Все дамы сверкали драгоценными каменьями. Характерно, однако, что оправа всех этих камней была почти сплошь старомодной, а престарелая миссис Ланнинг, которую все-таки удалось убедить приехать, красовалась в светлой испанской шали, скрепленной на груди фамильной камеей.
Из всех дам на этом обеде единственной молодой была графиня Оленска, и все же, когда за бриллиантовыми колье и горделивыми страусовыми перьями Арчеру удавалось разглядеть гладкие, пухлые окружности немолодых лиц, лица эти поражали его своей незрелостью в сравнении с лицом графини Оленска. Страшно было даже представить, сколько надо было пережить, чтобы получилось такое лицо!
Сидевший справа от хозяйки герцог Сент-Острей, естественно, был героем вечера. Но если графиня Оленска показалась всем менее яркой и заметной, чем ждали, герцог был и вовсе еле различим. Как человек воспитанный, он не позволил себе (в отличие от одного из гостей) явиться на вечер в охотничьей куртке, однако вечерний его костюм был таким поношенным, обвислым, а держался в нем герцог так привычно свободно и непринужденно, как если б то было домашнее платье, что вкупе с его сутуловатостью и густой широкой бородой, почти прикрывавшей манишку, лишало вид его всякой праздничности.
Он был мал ростом, загорелый, с круглыми плечами, толстым носом, маленькими глазками и светлой, добродушной улыбкой, но рот раскрывал он редко, а когда говорил, то делал это так тихо, что, несмотря на тут же замолкавший в ожидании стол, услышать сказанное могли лишь непосредственные его соседи.
Когда после обеда мужчины присоединились к дамам, герцог направился прямиком к графине Оленска, и, расположившись в уголке, они завели оживленную беседу. Казалось, им обоим невдомек, что по правилам герцогу надлежало первым долгом засвидетельствовать свое почтение миссис Ловел Мингот и миссис Хедли Чиверс, графине же полагалось побеседовать с мистером Урбаном Дагонетом с Вашингтон-сквер, ипохондриком, ради удовольствия видеть ее пренебрегшей застарелой своей привычкой не покидать дом в период с января по апрель. Наша парочка болтала так почти двадцать минут, после чего графиня встала и, преодолев широкое пространство гостиной, села возле Ньюленда Арчера.
В гостиных Нью-Йорка дамам не полагалось вдруг вставать, тем самым бросая джентльмена, с которым вела беседу, и искать общения с другим джентльменом. Этикет требовал, чтобы она оставалась на месте, сидя, как идол, в то время, как жаждущие с ней общения мужчины, выстроившись в очередь, сменяли бы друг друга возле нее. Но графиня, по-видимому, даже не догадывалась, что поступила не по правилам; пристроившись в уголке дивана, она глядела на Арчера взглядом самым добрым и благожелательным.
– Я хочу, чтобы вы рассказали мне о Мэй, – произнесла она.
Вместо ответа он задал вопрос ей:
– Вы были знакомы с герцогом ранее?
– О да, мы каждую зиму виделись с ним в Ницце. Он очень увлекается игрой и буквально пропадал в игорном доме. – Она упомянула это так просто, словно речь шла об увлечении гербариями, собиранием полевых цветов, и тут же добавила: – Он скучнейший человек из всех, кого я знаю.
Последнее замечание позабавило ее собеседника и заставило забыть о легком шоке, вызванном у него замечанием предыдущим. Как приятно встретить даму, считающую скучным именитого родственника Вандерлиденов и к тому же смеющую заявлять об этом! Ему захотелось расспросить ее о жизни, которую в таком неожиданном ракурсе представили и осветили ее неосторожные слова, но он побоялся пробудить в ней печальные воспоминания, и, пока он думал, что сказать, она вернулась к первоначальной теме:
– Мэй – такая лапочка. Ни одна девушка в Нью-Йорке не сравнится с ней ни красотой, ни умом. Вы очень ее любите?
Ньюленд Арчер покраснел и сказал с усмешкой:
– Насколько может любить мужчина.
Она задумалась, не сводя с него глаз, словно желая не упустить малейшего оттенка смысла только что произнесенных слов.
– Значит, вы думаете, что тут существует предел?
– В любви? Если и существует, мне он неведом.
Лицо ее засияло сочувственной улыбкой.
– Ах, так, значит, эта любовь – искренняя и настоящая!
– Искреннее не бывает.
– Как чудесно! И вы сами нашли ее, никто не хлопотал, не устраивал это за вас?
Арчер недоверчиво покосился на нее:
– Неужто вы позабыли, что у нас в стране мы не допускаем, чтобы наши браки устраивались кем-то, помимо нас?
Кровь бросилась ей в лицо, он тут же пожалел о своих словах.
– Да, – отвечала она. – Позабыла! Вы должны простить мне, если я иногда делаю такие ошибки. Не всегда помню о том, как здесь хорошо все то, что было так плохо там, откуда я прибыла…
Она опустила глаза, разглядывая свой венский веер из орлиных перьев.
– Простите, – порывисто сказал он. – Только знайте, что сейчас вы среди друзей!
– Да, я знаю. И куда бы ни пошла, всюду возникает у меня это чувство. За этим я и вернулась домой. Хочется забыть все другое, хочется вновь стать настоящей американкой, такой же, как Минготы и Уэлланды, и вы, и ваша милая матушка, и все эти милые, хорошие люди, что собрались здесь сегодня. А вот и Мэй, и вам, конечно, не терпится поскорее поспешить к ней, – добавила она, но сама не двинулась с места, а ее взгляд, обращенный было на дверь, переместился, вновь устремившись к лицу молодого человека.
Гостиная начала наполняться людьми, приглашенными на прием, обещанный после обеда, и, проследив, куда смотрит графиня, Арчер увидел в дверях Мэй вместе с матерью, входивших в гостиную. Высокая, одетая в белоснежно-серебристый наряд с серебристым цветочным венчиком на голове, девушка походила на только что спешившуюся с коня Диану-охотницу.
– О, – возразил Арчер, – у меня столько соперников! Сами видите, как они уже толпятся вокруг. И даже герцог спешит представиться.
– Тогда побудьте со мной еще немножко, – негромко сказала Оленска, коснувшись перьями веера его колена. Касание это, едва заметное, почему-то потрясло его, показавшись лаской.
– Да, разрешите мне остаться, – отозвался он, не меняя тона, но едва ли понимая, что он говорит, но тут к ним подошел мистер Вандерлиден, за которым следовал престарелый мистер Урбан Дагонет. Графиня приветствовала обоих строгой улыбкой, и Арчер, поймав направленный на него предостерегающий взгляд хозяина дома, поднялся и уступил свое место.
Мадам Оленска сделала рукой жест, похожий на прощальный.
– Тогда до завтра, после пяти… буду вас ждать, – сказала она и, отвернувшись, принялась усаживать мистера Дагонета.
– До завтра, – услышал Арчер собственный голос. Он повторил это как подтверждение, хотя ранее они ни о чем не уславливались и во время разговора она даже намеком не выражала желания опять с ним увидеться.
Отходя, он заметил Лоренса Лефертса. Высокий, несравненный в своем великолепии, он вел жену представляться графине; он услышал, как Гертруда Лефертс, просияв своей невинной, лишенной проницательности улыбкой, сказала: «Если я не ошибаюсь, то мы с вами в детстве брали уроки танцев в одной и той же танцевальной школе!» За ее спиной выстроились в ряд, ожидая своей очереди представиться графине, пары неколебимых упрямцев, не пожелавших встретиться с ней у миссис Ловел Мингот. Как заметила миссис Арчер, если уж Вандерлидены решили кого-то проучить, то они знают, как это сделать. Правда, к подобному решению они приходили на удивление редко.
Кто-то тронул молодого человека за плечо, и он увидел миссис Вандерлиден, глядевшую на него с высот своего неоспоримого, облаченного в черный бархат и украшенного фамильными бриллиантами превосходства: «Как же ты хорошо поступил, милый Ньюленд, что так самоотверженно посвятил себя развлечению мадам Оленска! Я уж просила Генри прийти к тебе на выручку!»
Он поймал себя на неопределенной улыбке ей в ответ, а она, как бы снисходя к его застенчивости, добавила:
– Мэй сегодня хороша, как никогда! Герцог считает, что красотой она затмила всех дам в этой гостиной!
Глава 9
Графиня Оленска сказала: «После пяти», и ровно в полшестого Ньюленд Арчер позвонил в звонок дома с облупленной штукатуркой и разросшейся глицинией, совершенно поглотившей ветхий и шаткий чугунный балкон; снятый графиней дом находился в дальнем конце Западной Двадцать третьей стрит и на значительном расстоянии от обиталища бродяжки Медоры.
Селиться в таком необычном районе было со стороны графини поступком экстравагантным. Ближайшими ее соседями теперь стали мелкие портные, таксидермисты и, что называется, «пишущая братия». Дальше по грязной, разъезженной улице Арчер заприметил деревянную развалюху, к которой вела мощеная подъездная дорожка, там жил некто Уинсет, его случайный знакомый, писатель и журналист, с которым он время от времени пересекался. Дома у себя Уинсет никого не принимал, но, прогуливаясь как-то раз вечером в компании Арчера, он показал ему, где живет, и даже предположение, что и в других столицах гуманитарии тоже могут жить в подобных условиях, будучи точно так же стеснены в средствах, вызвало у Арчера легкую дрожь ужаса.
От впечатления полного убожества жилище мадам Оленска спасала лишь свежая окраска оконных рам, и, глядя на скромный фасад дома, Арчер подумал, что польский граф, судя по всему, лишил супругу не только иллюзий, но и ее состояния.
День этот складывался для него неудачно. Он пообедал у Уэлландов, надеясь, что после обеда уведет Мэй в Парк. Ему хотелось побыть с ней наедине, сказать ей, как прелестно выглядела она накануне вечером и как он ею гордится, хотелось всячески умолить ее поторопиться со свадьбой. Но миссис Уэлланд решительно напомнила ему, что череда необходимых визитов пройдена едва ли наполовину, а когда он намекнул ей, что неплохо бы передвинуть поближе намеченную дату бракосочетания, лишь с упреком подняла бровь и, сокрушенно вздохнув, вымолвила: «По двенадцати дюжин всего, да еще с ручной вышивкой…»
Укупоренные в семейное ландо, они катались от одного родственного порога к другому, и, когда раунд этого дня завершился, он расстался со своей суженой, чувствуя себя каким-то диковинным зверем, которого хитростью заманили в капкан, поймали, а теперь демонстрируют. «Наверное, – думал он, – это чтение книг по антропологии так на меня подействовало, что простое и естественное проявление родственных чувств представляется мне чем-то грубым и нелепым»; но, вспомнив, что Уэлланды планируют свадьбу никак не раньше осени и нарисовав картины своей жизни до этой даты, он совсем пал духом.
– Завтра, – крикнула ему вслед миссис Уэлланд, – мы съездим к Чиверсам и Далласам!
Он понял, что действует она, сообразуясь с алфавитом, и, значит, они не одолели еще и четверти положенных визитов.
Он собирался рассказать Мэй о приглашении, а вернее – о распоряжении графини Оленска прийти к ней в тот день, но в краткие минуты, когда они с Мэй оставались одни, всякий раз у него возникали более неотложные темы для разговора. А кроме того, говорить с ней о приглашении ему вдруг показалось абсурдным. Разве не сама Мэй так ясно давала ему понять, что просит его проявить к кузине особое внимание? И разве не именно это ее настойчивое желание заставило их поспешить с объявлением помолвки? Его вдруг поразила мысль, что если б не приезд графини, он, возможно, был бы и сейчас свободен, или, по крайней мере, не так бесповоротно связан клятвой, и мысль эта почему-то несла облегчение, как бы освобождая от ответственности, даже если он и решил навестить графиню, ничего не сказав Мэй.
Когда он стоял у двери мадам Оленска, основным чувством, которое он испытывал, было любопытство. Его озадачивал тон, каким было сделано это приглашение, и, теряясь в догадках, он в конце концов пришел к выводу, что женщина эта не так проста, как кажется.
Дверь ему открыла смуглая, иностранного вида горничная, с высокой грудью, округлости которой четко выделялись под ярким шейным платком. Девушку эту он почему-то посчитал сицилийкой. Она приветствовала его белозубой улыбкой, в ответ на его расспросы покачала головой с видом полного непонимания и по узкому коридору провела в освещенную лишь светом камина гостиную с низким потолком. Комната была пуста, и горничная оставила его там в течение довольно продолжительного времени, заставляя гадать, ушла ли она, чтобы вызвать хозяйку, или просто не поняв, кто он и зачем пришел, впрочем, может быть, она ушла, чтобы узнать, который час, потому что единственные часы, которые ему попались на глаза, стояли. Он знал, что южные народы хорошо общаются при помощи жестов, и был уязвлен тем, что пожатия плечами и улыбки горничной оказались так невыразительны и мало что ему говорили. Наконец девушка вернулась с лампой в руках, а когда Арчер все-таки смог кое-как слепить фразу на языке Данте и Петрарки, в ответ он услышал: «La signora e fuori; ma verra subito», что, по его мнению, означало: «Синьора вышла, но скоро увидишь?»[25 - Плохо зная итальянский язык, Арчер путает итальянское «verra», будущее от «venire» (приходить), и «vedra», будущее от «vedere» (видеть). На самом деле служанка говорит с ним безукоризненно вежливо, предупреждая, что хозяйка скоро будет.].
Между тем пока что с помощью лампы он мог видеть только исполненный какого-то печального очарования сумрак комнаты, не похожей ни на одну другую из тех, что он знал. Ему было известно, что графине Оленска удалось привезти и кое-что из принадлежавших ей вещей. «Остатки кораблекрушения», как она их назвала. К ним, по-видимому, принадлежали эти небольшие, темного дерева столики, изящная греческая фигурка из бронзы на каминной полке и прикрывавший выцветшие обои алый дамаст, служивший фоном паре-другой картин в старых рамах. Живопись их походила на итальянскую.
Ньюленд Арчер гордился своим знанием итальянского искусства. С детских лет воспитанный Рёскином, он был знаком с новинками книг по искусству; прочел Джона Аддингтона Симондса, «Эйфорион» Вернона Ли, сборник П. – Дж. Хамертона и замечательную новую работу «Ренессанс» Уолтера Пейтера?[26 - Пейтер Уолтер (Горацио) (1839–1894) – английский эссеист и критик.].
Он с легкостью мог рассуждать о Боттичелли, снисходительно относился к Фра Анжелико. Но картины, которые он увидел в этой гостиной, его смутили тем, что были совершенно не похожи на живопись, которой он привык любоваться (и потому искал возможности видеть), путешествуя по Италии; а может быть, его способности восприятия мешала теперь странность ситуации – что его, по-видимому, никто не ждал. Он досадовал, что не рассказал Мэй о приглашении графини Оленска ее посетить, и немножко нервничал при мысли, что его суженой могло прийти в голову навестить кузину. Что подумает она, если застанет его сидящим здесь у камелька как близкий друг хозяйки – в полном одиночестве и полумраке? Но если уж пришел, надо ждать, и он поглубже уселся в кресло и протянул ноги к горящим в камине поленьям.
Странно все-таки вызывать его таким образом, а потом забыть о нем! Однако Арчер испытывал не столько чувство обиды, сколько любопытство. Атмосфера комнаты была такой непривычной, что неловкость исчезала, сменяясь ощущением приключения. Ему и раньше случалось бывать в гостиных, где стены были затянуты алым дамастом, гостиных, украшенных картинами «в итальянском духе», но поражала трансформация: было совершенно непонятно, как, каким образом и совершенно неожиданно, словно по щелчку пальцев, девочка, воспитанная в убогом арендованном жилище Медоры Мэнсон, с его скучной жухлой зеленью стен и пампасной травы на лужайке, росшая среди банальности роджеровских статуэток, каким-то чудом и с помощью всего лишь нескольких привнесенных предметов смогла создать обстановку интимного уюта, с легким налетом «иностранности», дышащую атмосферой романтики и нежных чувств. Он пытался отыскать ключ к этому чуду, ища его то в расстановке столиков и кресел, то в намеренной сдержанности, с какой в узкую вазу были помещены всего две розы (обычно их ставили чуть ли не охапками), то в разлитом в воздухе еле уловимом аромате – не от духов, которым душат носовые платки, а от чего-то совершенно экзотического, может быть, пахнущего восточным базаром, турецким кофе и амброй с примесью сухих розовых лепестков.
Он перенесся мысленно к Мэй и стал думать о том, на что будет похожа ее гостиная. Он знал, что мистер Уэлланд, который все это время вел себя «очень красиво», уже присмотрел новенький дом на Восточной Тридцать девятой. Район считался отдаленным, и цвет дома был ужасный, потому что выстроен он был из желто-зеленого камня, которые архитекторы помоложе стали использовать в знак протеста против однообразия нью-йоркской застройки: повсеместно применяемый темный песчаник окутывал город тьмой, словно погружая его в холодный соус из шоколада. При этом водопровод и канализация в выбранном доме были выше всяких похвал. Арчер намеревался попутешествовать, а вопросом о доме озаботиться потом, однако Уэлланды, хоть и одобрившие длительный медовый месяц в Европе (и даже возможный план всю зиму провести в Египте), были твердо уверены в необходимости иметь дом, в который молодожены могли бы въехать сразу же по приезде. Молодой человек чувствовал, что судьба его решена бесповоротно и решение скреплено печатью: каждый вечер до гробовой доски суждено ему входить в этот желто-зеленый особняк, подниматься между чугунными перилами в античного стиля вестибюль, а оттуда в холл, обшитый желтыми деревянными панелями. Дальше воображения не хватало. Он знал, что верхняя гостиная имеет эркер, но как распорядится им Мэй, представить себе он не мог. Она с такой охотой, так весело подчинялась стилю гостиной Уэлландов – лиловой с желтыми вкраплениями, с псевдобулем мебели и позолоченными горками, где выставлен современный саксонский фарфор, что он не видел причины, по которой она могла бы в собственном своем доме захотеть чего-нибудь иного. Утешала только мысль, что, может быть, она разрешит ему на собственный вкус обставить хотя бы библиотеку, и тогда там, конечно, мебелью будет «настоящий» истлейк, а книжные шкафы будут простые – без стеклянных дверец.
Вошла пышногрудая горничная, задернула шторы, поправила полено в камине, утешила его негромким «Verra-verra». Когда она вышла, Арчер встал и начал ходить из угла в угол. Сколько можно ждать? Это становится попросту глупо! А если он неверно понял мадам Оленска? Возможно, и не было никакого приглашения?
За окном вдруг послышался стук копыт; лошадь ходко шла, копыта звонко били по булыжной мостовой, и звук этот на тихой улице разносился далеко и был четок и явственен. Возле дома копыта смолкли, и он услышал, как хлопнула дверца экипажа. Раздвинув шторы, он выглянул в сгущавшиеся сумерки. Напротив окна был уличный фонарь, и падавший от него свет позволил разглядеть небольшой и ладный, влекомый сильным чалым конем английский экипаж Джулиуса Бофорта и самого банкира, который, спрыгнув, подавал руку мадам Оленска.
Держа шляпу в руке, Бофорт что-то сказал даме, но, получив, видимо, отрицательный ответ, пожал ей руку и вспрыгнул обратно в экипаж, в то время как она направилась к крыльцу.
Войдя в гостиную и увидев в ней Арчера, она не выказала удивления. Вообще удивление казалось чувством, менее всего ей свойственным.
– Как вам мой забавный домик? – спросила она. – Мне-то он просто раем видится!
Говоря, она развязывала ленты маленькой бархатной шляпки и, скинув ее вместе с манто, теперь стояла в раздумье, глядя на Арчера.
– Вы чудесно здесь все устроили, – ответил ей он, сам чувствуя банальность такого ответа, но оставаясь в рамках банальности из-за неодолимого желания говорить просто и в то же время внушительно.
– О, это убогое местечко. Мои родные презирают его. Но, по крайней мере, дом мой не так мрачен, как у Вандерлиденов.
Ее слова поразили его ударом молнии, ибо мало нашлось бы бунтарей, что посмели бы назвать величественный дом Вандерлиденов мрачным. Удостоившихся войти под его своды пробирала дрожь, но все они дружно называли его красивым. И вдруг – нежданная радость – она словесно выразила то, что у всех вызывало дрожь.
– Все, что вы здесь сделали, просто восхитительно, – повторил он.