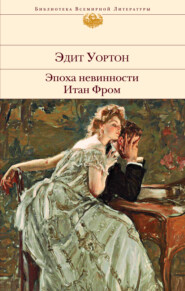скачать книгу бесплатно
Все это чувствовала миссис Арчер, и он знал, что она это чувствует, но знал также и то, что столь скоропалительное объявление помолвки, а вернее, причина такой скоропалительности ее волнует и ей непонятна. Вот почему, как нежный сын и заботливый хозяин, он в тот вечер остался дома.
– Я не то чтобы не одобряю семейной спайки Минготов, но почему к помолвке Ньюленда примешали эту Оленска с ее отъездами и приездами, я, убей меня, не понимаю! – недовольно буркнула она Джейни, единственному свидетелю легких трещин в непробиваемой броне ее безукоризненной безопасности.
В течение всего визита к миссис Уэлланд она вела себя идеально, а в умении вести себя идеально ей не было равных, и однако Ньюленд знал (а его суженая, несомненно, догадывалась), что, сидя у миссис Уэлланд, и она, и Джейни были настороже, боясь неожиданного вторжения мадам Оленска, а когда они вместе выходили от Уэлландов, она, обращаясь к сыну, обронила: «Благодарение Господу, Огаста Уэлланд принимала нас одна».
Эти свидетельства внутренней озабоченности и беспокойства волновали Арчера, тем более, что и сам он считал, что Минготы немного перегнули палку. Но так как заводить разговор о чем-то самом для них существенном оба – и мать, и сын – считали невозможным, противоречащим принятому ими кодексу морали, он ограничил свой ответ словами: «О, так уж заведено… все эти обязательные визиты после помолвки… хотя бы они скорее кончились!» На что мать ответила поджатием губ, еле видимых за кружевной вуалью, свисавшей со шляпки из серого бархата, украшенной гроздьями как бы тронутого морозом винограда.
Ее местью, и, как он чувствовал, местью законной, должна была стать попытка «вытянуть» этим вечером из мистера Джексона все возможные сведения о графине Оленска, и так как свой долг в качестве будущего члена клана Минготов он, по его мнению, выполнил, и выполнил публично, наш молодой человек не имел теперь ничего против того, чтобы послушать, что скажут дамы на сей счет в приватном порядке, хотя самый предмет этой беседы уже начал порядком ему надоедать.
Мистер Джексон взял себе ломтик еле теплого филе, предложенного ему печальным старшим лакеем, поглядывавшим на филе так же скептически, как и сам мистер Джексон. От грибного соуса последний, еле заметно потянув носом, отказался. Выглядел он обескураженным и голодным, и Арчер подумал, что, обсудив Эллен Оленска, мистер Джексон, возможно, на этом трапезу свою и завершит.
Откинувшись на спинку стула, мистер Джексон поднял взгляд к лицам Арчеров, Ньюлендов и Вандерлиденов, чьи портреты в темных рамах, развешанные по темным стенам дома, были теперь озарены светом канделябров.
– Ах, как же твой дедушка, дорогой мой Ньюленд, любил вкусно поесть за обедом! – сказал он, задержав взгляд на портрете пухлого и с мощной грудью юноши в синем сюртуке и широком галстуке, изображенного на фоне белых колонн загородной усадьбы. – Хотел бы я знать, что сказал бы он насчет этих браков с иностранцами!
Намек относительно кухни предка миссис Арчер проигнорировала, и мистер Джексон продолжил, неспешно и раздумчиво сказав:
– Нет, на балу ее не было.
– Ах… – пробормотала миссис Арчер, и в тоне ее прозвучало: «Ну хоть на это ей хватило благопристойности!»
– Возможно, Бофорты просто не знают ее, – подпустила свою невинную шпильку Джейни.
Мистер Джексон тихонько причмокнул, будто смакуя припрятанную мадеру:
– Миссис Бофорт, может, и не знает, ну а Бофорт, уж конечно, знает, потому что сегодня весь Нью-Йорк наблюдал, как они вдвоем разгуливают по Пятой авеню.
– Господи… – простонала миссис Арчер, видимо, осознав всю тщетность поисков деликатности в поступках иноземцев.
– Интересно, какие шляпки она носит днем – с полями или без, – пустилась в размышления Джейни. – В Опере, как мне сказали, она была в темно-синем бархатном платье, совершенно простом, без украшений, и свободном, как ночная рубашка.
– Джейни! – одернула ее мать, и мисс Арчер, покраснев, приняла вид независимый и дерзкий.
– Во всяком случае, в ее непоявлении на балу вкуса было побольше, – продолжала гнуть свое миссис Арчер.
Сын подхватил тему, но дух противоречия заставил его возразить:
– Не думаю, что тут дело во вкусе. Мэй объяснила, что она хотела пойти, но потом решила, что платье, о котором шла речь, для бала недостаточно нарядно.
Миссис Арчер лишь улыбнулась тому, что мнение ее подтвердилось.
– Бедная Эллен! – вздохнула она и сочувственно добавила: – Нам всем не мешает помнить, какое странное, эксцентричное воспитание дала ей Медора Мэнсон. Чего и ожидать от девушки, которой на первый свой бал разрешили нарядиться в черный атлас!
– Ах, как не помнить ее в том черном платье! – проговорил мистер Джексон и тут же со вздохом добавил: – Бедная девочка! – словно вспомнив нечто приятное, он не забыл и о том, какие последствия это «приятное» возымело.
– Странно, – заметила Джейни, – что она по-прежнему носит это дурацкое имя Эллен. На ее месте я бы сменила его на Элейн.
И она оглядела сидевших за столом, любопытствуя, достаточный ли эффект произвела.
Ее брат засмеялся:
– Почему именно Элейн?
– Не знаю. Элейн, кажется мне, звучит больше… больше по-польски, – краснея, сказала Джейни.
– Звучит более вызывающе, что вряд ли отвечает ее желаниям, – сухо заметила миссис Арчер.
– А почему бы и нет? – вмешался ее сын, внезапно обретя аргументы. – Почему бы ей и не вести себя вызывающе, если ей так хочется? Зачем ей прятаться и таиться, если это не она себя опозорила. Разумеется, она «бедняжка Эллен», если ее угораздило так неудачно выйти замуж, но я не вижу причины, почему ей следует жить, втянув голову в плечи, словно она какая-то преступница!
– Наверно, – задумчиво сказал мистер Джексон, – именно так и рассуждали Минготы, выбирая для себя линию поведения.
Юноша покраснел:
– Я не нуждался в их подсказке, если вы это имели в виду, сэр! Мадам Оленска в жизни не повезло, но зачем делать ее изгоем?
– Но слухи… – начал было мистер Джексон и покосился на Джейни.
– О, знаю: слухи про секретаря! – подхватил его мысль юноша. – Глупости, мама, Джейни – взрослая девушка! По слухам, – продолжил он, – этот секретарь помог ей сбежать от этой скотины – мужа, который держал ее буквально под замком. Что ж тут такого? Думаю, каждый нормальный мужчина в такой ситуации поступил бы точно так же!
Мистер Джексон обернулся, чтобы сказать стоявшему за его стулом печальному старшему лакею:
– Возможно, этот соус… несколько того…
А потом, взяв себе еще порцию, заметил:
– Мне говорили, что она подыскивает дом. Собирается здесь остаться.
– Я слышала, она хочет получить развод, – смело выговорила Джейни.
– И, надеюсь, получит, – с жаром подхватил Арчер.
В чистую, безмятежную атмосферу арчеровской столовой слово «развод» вторглось разорвавшейся бомбой. Миссис Арчер подняла тонкие свои брови, изогнув их особой дугой, означавшей: «Лакей!», и молодой человек, и сам старавшийся не погрешить против вкуса, прилюдно рассуждая о вещах столь интимного свойства, поспешно перевел разговор на рассказ об их визите к престарелой миссис Мингот.
После ужина, согласно древнему, как мир, обычаю, миссис Арчер и Джейни, шелестя шелками длинных платьев, перешли в гостиную, и там, пока мужчины курили под лестницей, они, сидя за рабочим столом из красного дерева друг напротив друга, при свете керосиновой лампы с гравированным колпаком, стоявшей на столе, с двух сторон тянули из зеленого шелкового мешка под столом и между ними ленту гобеленового орнамента, расшивая его полевыми цветочками. Орнамент призван был украсить собой «гостевое кресло» в гостиной будущей миссис Ньюленд Арчер.
А пока в нашей гостиной кипела работа, Арчер, предложив мистеру Джексону кресло возле камина в готической библиотеке, угостил его сигарой. Мистер Джексон, с удовольствием опустившись в кресло, закурил сигару с полным доверием к ее качеству (так как покупал сигары Ньюленд самолично) и, протянув к горячим углям свои худые старческие лодыжки, сказал:
– Так ты утверждаешь, дорогой мой мальчик, что секретарь всего лишь помог ей сбежать? Ну так скажу я тебе, что помогал он ей таким образом и год спустя, так как их встречали в Лозанне, где они жили вместе.
Ньюленд покраснел:
– Жили вместе? Ну так почему бы и нет? Кто дал нам право считать, что ее жизнь кончена, если она не кончена? Терпеть не могу этого лицемерия – хоронить заживо женщину, еще нестарую, только потому, что ее муж якшается с проститутками!
Он оборвал свою речь и отвернулся, тоже закуривая сигару.
– Женщины должны иметь свободу ровно такую же, как и мы, мужчины! – возгласил он, делая тем самым открытие, всю меру ужасных последствий которого ему мешало оценить охватившее его в тот момент раздражение.
Мистер Силлертон еще ближе придвинул к камину лодыжки и сардонически присвистнул:
– Что ж, – сказал он, помолчав, – по всему судя, граф Оленски с тобой это мнение разделяет. Ибо, как я слышал, он палец о палец не ударил, чтобы вернуть жену.
Глава 6
В тот же вечер, как только мистер Джексон отбыл, а дамы удалились в свою увешанную ситцевыми шторами спальню, Арчер поднялся к себе в кабинет. Там бдительная рука прислуги, как всегда, заботливо не дала погаснуть огню в камине, подкрутила фитиль лампы, и комната, с ее рядами книг, бронзовыми и стальными фигурками фехтовальщиков на каминной полке и обилием фотографических репродукций известных картин, радушно приняла его в свои объятия, окунув в неповторимую атмосферу родного ему домашнего уюта.
Бросившись в любимое кресло возле камина, он остановил взгляд на фотографии Мэй Уэлланд, подаренной ему девушкой в пору, когда их роман еще только завязывался, фотографии, потеснившей все другие на его столе. С каким-то новым чувством благоговения рассматривал он теперь чистый, открытый лоб, серьезные глаза, наивно улыбающиеся губы юного создания, чьей душе вскоре предстояло быть вверенной ему на попечение. Лицо Мэй Уэлланд, глядевшей на него с фотографии, внезапно словно изменилось – милые знакомые черты девушки, еще не ведавшей ничего в жизни и жаждущей получить от жизни все, вдруг обернулись пугающим отражением черт общества, к которому, правда, принадлежал и он и в которое он верил; лицо это было слепком, этим обществом изготовленным, было его плодом и детищем.
И вновь в который раз забрезжила догадка, что брак – это вовсе не тихая гавань, как ему внушали, не надежный якорь, брошенный у безопасной пристани, а плавание без карты по неведомым морям.
История с графиней Оленска переворошила устоявшиеся представления, внеся в них сумбур, и теперь мысли Арчера были в разброде и крутились в голове в хаотическом беспорядке. Бросив фразу: «Женщины должны иметь свободу, ровно такую же, как мы», он заценил корень проблемы, в его мире считавшейся несуществующей. Женщины «порядочные», пусть даже разок и оступившиеся, никогда не требовали для себя той свободы, которую имел в виду он, и с тем большей готовностью и щедростью мужчины, столь же великодушные, как он, в пылу спора и рыцарских чувств спешат им эту свободу даровать. Но щедрость эта – лишь на словах, она обманчива и лицемерна, это маска, скрывающая все те же неистребимые условности и правила, на которых держится все и которые не дают ни на шаг отступить от общепринятого.
В кузине Мэй он взялся защищать то, что в самой Мэй не потерпел бы и был бы вправе, позволь она себе такое поведение, призвать на помощь всю мощь государства и церкви для того, чтобы, меча громы и молнии, ее за это осудить. Разумеется, подобные размышления – чистая абстракция, своего рода гипотеза: как-никак он, Ньюленд, не польский аристократ и не подонок, и думать о правах жены в том случае, если б таковым он все-таки оказался, глупость и абсурд. Однако Ньюленду с его пылким воображением вовсе не трудно измыслить обстоятельства, пусть даже и не столь серьезные или же не столь явные, но непоправимо рушащие его отношения с Мэй. Ведь что могут они, строго говоря, знать друг о друге, если долг его, как человека «порядочного», скрыть от невесты свое прошлое, в то время как ее долг и долг всякой девушки на выданье – никакого прошлого не иметь? И разве не могут они расстаться по причине и вовсе незначительной и даже трудноуловимой – устав друг от друга, или по недоразумению, или вдруг вспылив во время ссоры? Он перебирал в памяти браки своих знакомых и друзей, браки, считавшиеся удачными, счастливыми, и понимал, что ни один из них и малейшего сходства не имеет с той неиссякаемо нежной страстью, которая рисовалась ему в мечтах об их с Мэй брачном союзе. Он догадывался, что для установления такого рода отношений от Мэй бы потребовались и опыт, и многосторонность, и свобода суждений – качества, которых ее так долго и заботливо учили не иметь, и с содроганием прозревал будущность своего брака, грозившего превратиться в подобие других браков вокруг – в скучный союз, скрепленный общностью материальных интересов и положения обоих в свете, союз, поддерживаемый лишь неведением – одной стороны и лицемерием – другой. Супруга такого типа идеально, на взгляд Арчера, воплощал собой Лоренс Лефертс. Будучи мастером и верховным жрецом формы, он и жену воспитал себе под стать, жену крайне удобную, известную тем, что, когда весь свет трубит об очередной скандальной интрижке ее мужа с чужой женой, она ходит с видом полного неведения и, мило улыбаясь, жалуется лишь на «чрезмерную строгость» ее Лоренса в вопросах морали, а когда однажды в ее присутствии речь зашла о Бофорте, который (как это и водится у иностранцев, да еще столь сомнительного происхождения) обзавелся в Нью-Йорке, что называется, «вторым гнездышком», она покраснела от негодования и смущенно отвела взор.
Арчер пытался утешить себя мыслью, что он не такой осел, как Ларри Лефертс, да и Мэй не до такой степени простодушна, как бедная Гертруда, но разницу составляла лишь степень интеллекта, а вовсе не принятые стандарты поведения и взглядов. На самом деле все они жили в мире иероглифов, где впрямую ничто не делалось, не называлось и даже не думалось, а реальность была представлена набором знаков, принятых и произвольно утвержденных, поэтому миссис Уэлланд, отлично знавшая, по какой причине Арчер настаивал, чтобы о помолвке дочери было объявлено на балу (и даже удивилась бы обратному), считала необходимым изображать неудовольствие от того, что ее якобы заставили так поступить, в точности, как это бывало в первобытных племенах, чью жизнь теперь все углубленнее изучают представители более развитой цивилизации – там тоже было принято тащить невесту из родительской хижины под ее вопли и крики.
В результате девушка, являвшаяся центром всей этой сложной и запутанной системы мистификации, оставалась загадкой тем большей, чем более открытой и уверенной казалась. Она была открытой, бедняжка, потому что ей было нечего скрывать, уверенной – потому что не знала за собой никаких секретов, на страже которых ей следовало быть. И вот с таким багажом ей, совершенно неподготовленной, в одночасье предстояло столкнуться с тем, что уклончиво зовется «некоторыми сторонами жизни, как она есть».
Наш молодой человек любил искренне, но трезво. Он восхищался лучезарной красотой своей избранницы, ее отличным здоровьем, мастерством верховой езды, ее грацией и ловкостью в играх, робким интересом к книгам и идеям, начавшим проявляться в ней под его руководством. (Она сделала кое-какие успехи – достаточные, чтобы вместе с ним потешаться над теннисоновскими «Королевскими идиллиями»?[16 - Произведения чрезвычайно популярного в свое время английского поэта Альфреда Теннисона (1809–1892) отличались безмерной выспренностью и сентиментальностью.], но еще не столь существенными, чтобы с наслаждением следить за приключениями Одиссея или интересоваться жизнью лотофагов на их острове.) Она была девушкой прямодушной, верной и храброй, обладала чувством юмора (чему основным доказательством был смех, которым она встречала его шутки), и он подозревал скрытую в глубине ее девственной и созерцательной души искру чувств, разбудить которые он с радостью предвкушал. Но, обозрев вкратце весь ее внутренний мир, он был обескуражен мыслью о том, что вся ее невинность, вся открытость – вымученны и искусственны. От природы Душа человеческая, какая она есть, какой рождается на свет, вовсе не проста и не открыта, наоборот, она вооружена массой хитрых уловок, данных ей для защиты, она инстинктивно лжива. И его тяготила эта искусственная чистота, так хитро сфабрикованная сговором всех этих матушек, тетушек, бабок и давно почивших прародительниц, потому что, по их представлениям, именно этой чистоты он жаждал, на нее имел право, чтобы с наслаждением, как хозяин сокрушить эту снежно-белую чистоту, как крушат фигуру, слепленную из снега.
В его размышлениях не только не было ничего нового, но они отдавали банальностью – обычные мысли и сомнения юноши накануне свадьбы. Однако обычно к ним примешиваются сожаления, угрызения совести, самоуничижение, которых у Ньюленда не было и следа. Он вовсе не сокрушался (как нередко раздражавшие его этим герои Теккерея), что не может подарить возлюбленной в обмен на ее непорочность свою девственную, как белый снег, чистоту. Он не мог побороть в себе подозрений, что, будь он воспитан так же, как она, они чувствовали бы себя как дети, заплутавшие в лесу. И как бы судорожно и страстно ни предавался он размышлениям, он не мог найти основательной причины (никак не связанной с его минутным удовольствием или удовлетворением извечного мужского тщеславия), почему его невесте отказано в той свободе эксперимента, какой пользуется он.
Вот какие мысли бродили в этот поздний час в его голове, и он сознавал, что настойчивость и неотвязность их вызваны случившимся так некстати прибытием графини Оленска. В самый момент помолвки, когда он должен был бы предаваться самым радужным мечтам, полниться самыми чистыми мыслями и безоблачными надеждами, его подняли, как на вилах, подняли и вторгли в скандал, за которым шлейфом тянутся проблемы, которых он предпочел бы избегнуть. «К черту эту Эллен Оленска!» – пробормотал он и, притушив в себе раздражение, принялся раздеваться. Он не мог взять в толк, каким образом и почему ее судьба может иметь отношение к нему, к его жизни и хоть в какой-то степени влиять на нее, но смутно отдавал себе отчет в том, что уже начал считать риски той борьбы, в которую он теперь, так или иначе, втянут.
А несколько дней спустя грянул первый гром.
Ловел Минготы разослали приглашения на так называемый «официальный обед» (то есть обед, предполагавший трех дополнительных лакеев, два блюда для каждой из перемен и римский пунш в середине). В первых же строках приглашения значилось: «В честь приезда графини Оленска» – дань обычному американскому гостеприимству, в соответствии с которым гостей принимают как королевских особ или по крайней мере как послов этих особ.
Гости отбирались с дерзостью и в то же время с тщанием, в которых знатоки распознали бы твердую руку Екатерины Великой. Наряду с такими бессменными столпами общества, как Селфридж Мерри, которых приглашали всюду и всегда, потому что так было заведено от века, Бофортами, по подозрению в родстве, мистером Силлертоном Джексоном и его сестрой Софи (являвшейся всюду, куда ей указывал явиться ее брат) приглашения получили и некоторые из наиболее популярных и при этом безукоризненных светских пар помоложе: чета Лоренс Лефертсов, миссис Лефертс Рашворт (хорошенькая вдовушка), супруги Торли, Реджи-Чиверсы, молодой Морис Дагонет с супругой (урожденной Вандерлиден). Состав гостей был подобран идеально, так как все приглашенные принадлежали к избранному кружку, члены которого во время долгого нью-йоркского сезона денно и нощно развлекались сообща с явным и неослабным энтузиазмом.
А сорок восемь часов спустя произошло немыслимое: каждый из приглашенных, за исключением Бофортов и старого мистера Джексона с сестрой, приглашение Минготов отклонил. Нанесенное оскорбление было тем разительнее, что приглашение в числе прочих отклонили и Реджи Чиверсы, родственники Минготов; подчеркивала его и одинаковая у всех форма отказов, в которых за словами, выражавшими «сожаление ввиду невозможности принять приглашение», отсутствовала ссылка на «уже существующую на этот вечер договоренность», такой ссылки, несколько умиряющей отказ, требовали правила простой вежливости. Нью-йоркское общество тех лет было слишком невелико и ограничено в ресурсах, чтобы каждый, ему причастный (включая конюхов, старших лакеев и поваров), не знал бы досконально, кто в какой вечер свободен, а кто нет, что и дало приглашенным к Ловел Минготам возможность продемонстрировать совершенно ясным и жестким образом свое нежелание увидеться с графиней Оленска.
Удар был неожиданным, но Минготы встретили его с присущей им отвагой. Миссис Ловел Мингот поделилась произошедшим с миссис Уэлланд, та, в свою очередь, поделилась с Ньюлендом Арчером, и Ньюленд, пылая гневом возмущения, отправился к матери и страстно, убедительно стал просить ее вмешаться. Миссис Арчер, пройдя мужественный период внутреннего сопротивления и внешних отговорок и отсрочек, уступила наконец требованиям сына (как, впрочем, делала и всегда) и принялась за дело – решительно и с энергией, еще и удвоенной предыдущими сомнениями и колебаниями. Надев свой серый бархатный капор, она сказала: «Еду к Луизе Вандерлиден!»
Нью-Йорк времен Ньюленда Арчера можно было бы уподобить пирамиде, невысокой, но монолитной и со скользкой поверхностью – без единой (пока еще) трещины для опоры. Твердое основание пирамиды составляли те, кого миссис Арчер называла простолюдинами, – добропорядочное, но не совсем ясного происхождения большинство – почтенные семейства тех (как в случае со Спайсерами, или Лефертсами, или Джексонами), кто сумел повысить свой статус, заключив брак с кем-то из правящих кланов. «Люди сейчас, – любила повторять миссис Арчер, – не так щепетильны, как в прежние времена, и если на одном конце Пятой авеню правит бал старая Кэтрин Спайсер, а на другой – царит Джулиус Бофорт, то трудно ожидать, что старые традиции сохранятся надолго».
По направлению к верхушке пирамида неуклонно сужалась, выделяя из субстрата людей состоятельных, но ничем не выдающихся, сплоченную и небольшую доминантную группу, ярко представленную Минготами, Ньюлендами, Чиверсами и Мэнсонами. Большинство полагало, что это и есть верхушка пирамиды, но сами принадлежавшие к этой группе (во всяком случае, из поколения миссис Арчер) отлично знали, что, на просвещенный взгляд знатока генеалогии, на такую честь могли претендовать лишь немногие избранные семейства.
«Не хочу слышать, – говорила миссис Арчер детям, – всю эту газетную чушь о так называемой нью-йоркской аристократии! Если таковая и имеется, то это не Минготы, нет, и не Ньюленды, как и не Чиверсы! Наши деды и прадеды были всего лишь почтенными купцами – английскими или голландскими, отправившимися в колонии для заработка и оставшимися здесь, потому что дела у них пошли хорошо. Один из ваших предков подписал Декларацию?[17 - Декларация независимости (1776).], другой был генералом в ставке Вашингтона и принял меч у генерала Бургойна?[18 - Генерал Бургойн Джон (1822–1892) – британский генерал, участвовавший в сражениях Войны за независимость (1775–1783) и капитулировавший в битве при Саратоге (1777).] после битвы при Саратоге. Всем этим стоит гордиться, но никакого отношения к аристократии наши предки не имеют. Нью-Йорк всегда был сообществом торговцев и коммерсантов, а на аристократическое происхождение здесь могут претендовать в строгом смысле слова лишь семейства три, не больше.
Миссис Арчер, как и ее сыну, и дочери, как и всем прочим в Нью-Йорке, было известно, кто эти привилегированные семейства: во?первых, Дагонеты с Вашингтон-сквер, потомки старинного английского графского рода, состоявшего в родстве с Питтами и Фоксами; затем Ланнинги, переженившиеся с потомками графа Де Грасса, и Вандерлидены – прямые потомки первого голландского губернатора Манхэттена, еще до Революции породнившиеся, вступая с ними в браки, с представителями французской и британской знати.
Из Ланнингов сохранились лишь две очень старые, но бодрые мисс, безмятежно доживавшие свой век среди воспоминаний, семейных портретов и мебели чиппендейл; Дагонеты были представлены значительно шире, к тому же их связывало родство с лучшими семействами Балтимора и Филадельфии; но выше всех в этой иерархии располагалось семейство Вандерлиден, пребывавшее к тому времени в глубоком сумраке забвения, за исключением двух весьма заметных фигур – мистера и миссис Генри Вандерлиденов.
Миссис Генри Вандерлиден в девичестве звалась Луиза Дагонет. Ее мать являлась внучкой полковника Дюлака, происходившего из старинного семейства, испокон веку жившего на одном из островов Канала?[19 - То есть Ла-Манша.]; в войну он сражался под командованием Корнуолиса?[20 - Маркиз Корнуолис Чарльз (1738–1805) – командующий британскими войсками во время Войны за независимость.], а после войны обосновался в Мэриленде и женился на леди Анжелике Тревенна, пятой дочери графа Сент-Острея. Узы, связывающие Дагонетов, мэрилендских Дюлаков и их аристократическую корнуольскую родню Тревенна, всегда оставались тесными и полными сердечной симпатии. Мистер и миссис Вандерлиден не раз подолгу гостили у тогдашнего главы дома Тревенна герцога Сент-Острея и в его резиденции в Корнуолле, и в Глостерширском Сент-Острее, и Его светлость часто говорил о своем намерении когда-нибудь отдать им визит (без герцогини, боявшейся плаваний в Атлантике).
Мистер и миссис Вандерлиден делили свое время, пребывая то у леди Тревенна в Мэриленде, то в Скитерклиффе, величественной усадьбе на Гудзоне, подаренной в числе прочих колониальных даров голландского правительства выдающемуся губернатору, усадьбе, «почетным владельцем» которой теперь являлся мистер Вандерлиден. Их большой, внушительного вида дом на Мэдисон-авеню открывался редко, и, наезжая в город, на Мэдисон-авеню они принимали лишь самых близких своих друзей.
– Надо бы и тебе со мной поехать, Ньюленд, – сказала ему мать, уже стоя возле «Браун-купе». – Луизе ты так нравишься, а кроме того, я ведь это ради Мэй предпринимаю такие шаги еще потому, что уж если и нам не держаться вместе, то от общества вообще ничего не останется.
Глава 7
Рассказ своей кузины миссис Арчер миссис Генри Вандерлиден слушала молча. Всегда и с самого начала стоило не упускать из виду, что для миссис Вандерлиден молчание являлось состоянием обычным, но, несмотря на ее уклончивую сдержанность, качество, свойственное ей от природы, а еще и добавленное воспитанием, к людям, ей искренне симпатичным, она была очень добра. Но, даже помня это и имея опыт общения с ней, не всегда можно было избегнуть дрожи холода, попадая в гостиную дома на Мэдисон-авеню – просторную, с высоким потолком и белоснежными стенами, уставленную креслами с их бледной парчовой обивкой, выглядевшими так, словно с них только ради вас сняли чехлы, где позолоченную бронзу камина и прекрасный портрет леди Анджелики Дюлак в старинной резной раме, картину кисти Гейнсборо, прикрывала марля.
Напротив чудесного портрета ее прародительницы висел написанный Хантингтоном портрет самой миссис Вандерлиден (одетой в черный бархат и венецианские кружева). Портрет этот считался превосходным (словно сам Кабанель?[21 - Кабанель Александр (1823–1889) – французский живописец академической школы.] писал!), и хотя с момента написания портрета минуло добрых двадцать лет, сходство его с оригиналом по-прежнему признавали «удивительным». И вправду, когда, сидя под своим портретом, миссис Вандерлиден слушала миссис Арчер, можно было принять ее за двойняшку той белокурой и еще довольно молодой женщины, понуро сидящей в позолоченном кресле на фоне гардины из зеленого репса. Выходя в свет, миссис Вандерлиден по-прежнему надевала черный бархат и венецианские кружева, но так как в свет вечерами выходила она теперь редко, то в бархате и кружевах ее удавалось видеть лишь гостям, которых она встречала, стоя в дверях дома, специально открытого по случаю приема. Белокурые волосы ее теперь потускнели, хотя седины в них и не было, но прическа осталась прежней – с плоскими волосяными фестонами на лбу, а прямой нос, ровной линией рассекавший бледную голубизну глаз, со времен портрета лишь слегка заострился на самом кончике. Ньюленду такая ее сохранность в атмосфере полной безукоризненности существования всегда казалась несколько пугающей – так сохраняются тела, застывшие во льду, застигнутые смертью в пору цветущей жизни.
Как и вся его семья, он уважал миссис Вандерлиден и восхищался ею, и все же эта мягкая благосклонность этой дамы почему-то делала ее менее доступной, чем суровость некоторых тетушек миссис Арчер, свирепых старых дев, говорящих «нет» из принципа и раньше, чем успели выслушать просьбу.
Миссис Вандерлиден не говорила ни «да», ни «нет», но всегда казалась склонной к снисходительному милосердию до тех пор, пока тонкие губы, изогнувшись в подобии улыбки, не произносили почти неизменное: «Сначала мне надо обсудить это с мужем».
Она и муж ее были так схожи, что Арчер часто сомневался, могут ли эти два слившихся воедино после сорока лет тесного супружества существа каким-то образом разъединиться, хотя бы на время диалога, необходимого, чтобы что-то «обсуждать». Но так как оба они никогда не принимали решения, не предварив его загадочным тайным совещанием, то миссис Арчер и ее сын, изложив свое дело, покорно ожидали знакомой фразы.
Однако редко кого-нибудь удивлявшая миссис Вандерлиден на этот раз их удивила, когда длинной рукой своей потянулась к веревочке колокольчика.
– Думаю, – сказала она, – что Генри стоит услышать то, что вы мне рассказали.
Вошел лакей, и она с суровым видом распорядилась:
– Если мистер Вандерлиден кончил читать газету, пожалуйста, попросите его проявить любезность зайти к нам.
«Читать газету» было сказано тоном, как если б жена министра имела в виду заседание кабинета, на котором председательствует ее муж, – и это не было проявлением высокомерия, просто она привыкла, а все друзья и родственники поощряли ее в этом, считать каждый поступок мистера Вандерлидена и малейшее его движение крайне важными.
Быстрота ее реакции свидетельствовала о том, что дело это она, как и миссис Арчер, признала не терпящим отлагательства, но чтобы не подумали, будто она уже заранее все решила, она добавила с любезнейшей из улыбок: «Генри всегда так рад тебя видеть, милая Аделина, и он наверняка захочет поздравить Ньюленда».
Двойные двери вновь торжественно распахнулись, и между створками показался мистер Генри Вандерлиден – высокий, худой, облаченный в сюртук мужчина с тускло-белокурой шевелюрой, прямым, как у жены, носом и таким же, как у нее, застывшим выражением любезности в глазах, правда, не бледно-голубых, а бледно-серых.
Мистер Вандерлиден с подобающей случаю любезностью приветствовал миссис Арчер и, пробормотав негромким голосом и в выражениях, совершенно схожих с теми, что содержались в лексиконе жены, свои поздравления Ньюленду, с простотой царствующего монарха уселся в одно из парчовых кресел.
– Я только что «Таймс» читать кончил, – сказал он, сомкнув кончики длинных пальцев. – В городе я бываю так занят по утрам, что знакомиться с утренней прессой мне удобнее попозже, после второго завтрака.
– Ах, это очень разумное решение, помнится, дядя Эгмонт всегда говорил, что чтению утренних газет следует отвести дневные часы, так спокойнее, – с готовностью подхватила миссис Арчер.
– Да, добрый мой батюшка ненавидел спешку. А сейчас мы живем словно впопыхах, – сказал мистер Вандерлиден размеренно и веско, и не спеша, с удовольствием обвел взглядом гостиную, укутанную в чехлы, что казалось Ньюленду символом, подходящим и для изображения хозяев дома.
– Но, надеюсь, чтение ты закончил, Генри? – вставила свой тревожный вопрос жена.
– О да, вполне! – заверил ее мистер Вандерлиден.
– Тогда мне хотелось бы, чтоб Аделина рассказала тебе…
– О, вообще-то, это касается Ньюленда, – с улыбкой сказала миссис Арчер, после чего вновь повторила историю чудовищного афронта, который потерпела миссис Ловел Мингот.
– И конечно, – завершила она свой рассказ, – и Огаста Уэлланд, и Мэри Мингот обе считают, особенно если учесть помолвку Ньюленда, что тебе и Генри следует это знать.
– Ах, – с глубоким вздохом произнес мистер Вандерлиден.
Наступило молчание, в котором тиканье солидных бронзово-золотых часов на беломраморной каминной полке казалось громким, как выстрел сигнальной пушки. Не без благоговения созерцал Арчер две хрупкие, траченные временем фигурки, сидевшие бок о бок, закоснелые в своей вице-королевской непреклонности, рупоры идей, выработанных бог весть когда их предками, призванные судьбой вершить суд, высказывая свое окончательное мнение, хотя куда как с большим удовольствием жили бы они жизнью простой и уединенной, удаляя с безупречных газонов Скитерклиффа еле видимые ростки сорняков, а по вечерам дружно и увлеченно раскладывая пасьянс.
Первым нарушил молчание мистер Вандерлиден.