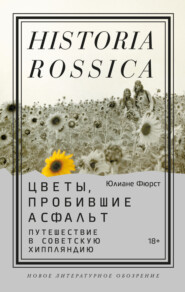
Полная версия:
Цветы, пробившие асфальт. Путешествие в Советскую Хиппляндию
Хотя личная история в большей степени скрыта, мне очень хотелось продемонстрировать определенные аспекты субъективного процесса «создания» истории. Первую методологическую помощь предложил мне антропологический/этнографический подход, однако я поняла, что для историка процесс написания истории – это не только личный опыт взаимодействия, но скорее разговор с самим собой и собранными свидетельствами, который чаще всего происходит, когда ты сидишь за столом, перед экраном компьютера. Авторское «я» присутствует в большей степени тогда, когда я принимаю решение, оценивая разные свидетельства, комбинируя их с впечатлениями от моих полевых исследований и, сознательно и подсознательно, сравнивая их с моим личным опытом. Когда я писала эту книгу, я пыталась создать то, что я назвала «радикальной авторской прозрачностью», часто включая небольшой рассказ о том, как я получила те или иные сведения. Я больше, чем обычно, делюсь своими сомнениями по поводу определенной информации и описываю процесс оценивания данных. Я задаю вопросы там, где не хватает данных или где есть противоречия в утверждениях очевидцев, и стараюсь заполнить пробелы объяснениями, откуда взялись мои предположения, основанные на целом комплексе моих впечатлений. И если в первых главах книги этот процесс в основном не заметен, то в тематических главах авторский голос звучит с большей силой, а кульминацией служит экспериментальная глава о женщинах-хиппи, где я разбираю сложные вопросы, которые, как мне казалось, требовали честности в отношении моих собственных мотивов и убеждений.
В ходе этого проекта я все больше осознавала, насколько сильно личный опыт, обстоятельства, время и пространство влияют на исторический анализ в тот или иной момент времени. С одной стороны, понимание этого повлекло за собой отрезвляющее признание нестабильности истории, с другой – открыло захватывающие новые возможности для анализа с помощью субъективного авторского взгляда, что, на первый взгляд, рассматривается как недостаток. Это также является моим ответом тем критикам (в основном из хипповских рядов, но они также присутствуют и в академических кругах), которые сомневаются, может ли тот, кто никогда не был хиппи, не жил в советское время и не является носителем языка, заниматься темой, которая так сильно связана со своими собственными культурными кодами и языком. Конечно, нужно изучить «культуру хиппи», прежде чем про нее писать. Безусловно, есть много аспектов хипповского сленга, которые остаются для меня загадкой, несмотря на мое усердное изучение жаргона, связанного с наркотиками и музыкой. Несомненно, бывший хиппи написал бы другую книгу (как это сделала Татьяна Щепанская в 2004 году)23, а у российского исследователя был бы совсем другой подход (что несомненно демонстрирует в своих работах блестящий историк Ирина Гордеева). Но эту книгу написала я, немка, не имеющая фамильных корней в России, не жившая среди хиппи, но на двенадцать лет ушедшая в эту тему с головой, спасая от забвения большую часть истории советских хиппи. Я не буду утомлять своих читателей подробностями того, как моя личная история подтолкнула меня к этому. Тем не менее я могу утверждать, что моя собственная очень специфическая близость к теме, как и отдаленность от нее, породили особый набор интерпретаций. Нет случайного совпадения в том, что меня как вырванного из своей среды космополита интересует вопрос вненациональных идентичностей и сообществ, которые связаны друг с другом принципами, не имеющими границ. И как человеку, выросшему в непосредственной близости от религиозной общины, мне были близки вопросы веры, духовности и сплоченности внутри сообщества верующих. Находясь вне советской эпохи, я могла свободно оглядываться на советские времена без гнева, восхищения или благодарности, хотя как немка я достаточно хорошо знаю, что невозможно отделить описание недавней истории от вездесущности личных семейных воспоминаний. Список можно продолжить, и действительно, каждый пункт требует довольно много пояснений, чтобы перейти от простого утверждения к чему-то должным образом проанализированному. Но суть остается прежней. Эта книга – результат сотрудничества между моими источниками и мной самой (что верно для любой книги, но из‐за того, что в этой книге много устных источников и ее генезис лежит в большом количестве квазиантропологических полевых исследований, к ней это относится в большей степени). И так же, как и само сообщество советских хиппи, эта книга уходит корнями в места, где они жили, но при этом она также очень транснациональна.
ВСЮДУ ХИППИ, ХИППИ
Когда мы слышим слово «хиппи», мы первым делом думаем про Сан-Франциско, Хейт-Эшбери и калифорнийский хипповский образ жизни. Мы также представляем хиппи глобальным явлением, возможно, даже первой настоящей молодежной культурой. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что хиппи, конечно, были продуктом «белого» мира. Это движение стало глобальным прежде всего благодаря своим участникам. Они путешествовали по Азии, превратив такие далекие от хипповской культуры города, как Стамбул и Кабул, в главные пункты своей топографии, чтобы потом осесть в далеком непальском Катманду или на берегах индийского Гоа. И хотя сами они были преимущественно городскими детьми, они также сократили разрыв между городом и деревней, переехав в отдаленные сельские районы, чтобы там зажить жизнью своей мечты24. Они были дилетантами во всем, чем бы ни занимались: сельским хозяйством, строительством домов для своих коммун, торговлей и искусством. Но тем не менее они оставили значительный след во всех этих областях. Поэтому странно, что даже в Соединенных Штатах существует так мало академических работ, изучающих явление хиппи25. Как будто бы из‐за собственного успеха хиппи так быстро превратились в ходячее клише, что исследователи не испытывали особого желания изучать их на академическом уровне. Возможно, они также стали жертвами тенденций того времени: будучи преимущественно детьми из белых семей среднего класса, они выглядят безусловным мейнстримом для современной науки, несмотря на все свои контркультурные достижения (и также несмотря на тот факт, что хиппи и их политические родственники йиппи были среди тех, кто первым преодолел расовые различия в американском обществе). Наверное, к тому времени, когда хиппи появились, первая волна изучающих субкультуры ученых только что закончила с хулиганами, стилягами, модами и рокерами26, предложив миру такие новаторские термины, как «народные демоны», «моральная паника» и «сопротивление через ритуал»27. Влиятельная бирмингемская школа изучения молодежных культур удивительным образом умалчивает о хиппи – в гораздо большей степени британских исследователей заинтересовали панки, как и в целом историков по всему миру, включая Восточную Европу28. Между тем интерес к хиппи в Соединенных Штатах упал до такой степени, что в огромном сборнике, включающем 26 статей о различных молодежных культурах XX века, нет ни одной на тему хиппи, а само слово даже не попало в указатель29. Количество американских научных трудов, в названии которых есть слово «хиппи», можно пересчитать по пальцам30. Похоже, что и в Великобритании нет ни одного обширного академического исследования хиппи, несмотря на то что здесь находился еще один крупный центр хипповской жизни.
В то же время повседневная хипповская жизнь отразилась на всем: моде и разговорном языке, не говоря уже о реинкарнации хиппи в XXI веке в виде городских хипстеров. Впрочем, из‐за такой повсеместности хиппи как раз вряд ли вернутся в центр академического внимания, хотя 50-летие Вудстока вызвало большой интерес журналистов, написавших про «те времена». Эмоциональность движения хиппи по-прежнему очевидна в его культуре памяти: размышления о прошлом – это в основном «чувства», а не интеллектуальные упражнения. Картина становится иной, когда дело доходит до специальных областей жизни хиппи и их активизма, которые привлекали внимание исследователей и стали главными темами очень интересных книг (возможно, это свидетельствует о том, что движение хиппи становилось чем-то достойным внимания только тогда, когда занималось конкретными проблемами). Читая все это, удивляешься тому, как часто хиппи служили движущей силой перемен или способствовали появлению чего-то нового. Широко известна вовлеченность хиппи в проблемы коренных американцев, что спустя какое-то время изменило взгляды общества на права, владение землей и ответственность перед природой31. Также существует отличная книга о женщинах-хиппи и их неоднозначной роли в борьбе за женские права, которая лишь частично соответствовала проблемам феминизма второй волны32. И, что немаловажно, произошла заметная переоценка хипповского искусства и дизайна, в результате которой появилась выставка, название которой – «Модернизм хиппи» – интерпретирует движение как художественный и социальный авангард33.
Это название, безусловно, стало пищей для размышлений. Были ли хиппи движущей силой «модерна», а если да, то было ли так повсюду? Что означает модерн сегодня, в наш постмодернистский, постнеолиберальный век? Современники хиппи отвечали на первый вопрос более-менее утвердительно, и авторы, пишущие про них, отмечали – как с ужасом, так и с восхищением – все то новое и выходящее за рамки, что они привносили, но с нынешней точки зрения их «модерновость» вызывает споры. В зависимости от личных предпочтений хиппи оцениваются – особенно широкой публикой – как движение малозначительных эксцентриков 1960‐х годов, которые позже в массе своей реинтегрировались в общество, предавая таким образом идеалы своей юности. Или же на них смотрят как на первопроходцев, которые подготовили почву для более либерального политического, сексуального и культурного климата. Есть еще не самая распространенная точка зрения, указывающая на архаичные элементы в мышлении хиппи, которые можно интерпретировать как очевидные силы антимодернизма, особенно учитывая их увлечение всем натуральным, естественным и так называемым аутентичным. Эти элементы могут способствовать развитию консерватизма, национализма и даже фашизма, что показали, например, события в Уэйко в 1993 году. То, что в России многие олдовые хиппи обратились к православной церкви и поддержали националистическую программу Путина (или даже расистские теории, которые выходили далеко за рамки этой националистической программы), ставит вопрос о том, насколько хиппи были действительно «модерном» – или же в действительности они были чем-то ему противоположным. Возможно также, что термины «модерн» и «антимодерн» потеряли свое значение, как только движение хиппи распространилось по всему миру, именно потому, что это была очень современная реакция с точки зрения стиля (глобалистская, молодежная, политически-эмоциональная, религиозно-терпимая, без расовых предрассудков), но с таким антисовременным арсеналом, как домашнее производство, бартерная экономика, самодеятельная культура и увлечение религией. Выставка «Модернизм хиппи» заставляет задуматься: были ли куполообразные постройки Дроп-сити (Drop City), сделанные из останков старых автомобилей, футуристическим дизайном (как, к слову сказать, это утверждал советский журнал «Современная архитектура» задолго до того, как кто-либо в Америке вообще обратил на это внимание34)? Или они были просто еще одной реинкарнацией хижин, созданных бежавшими от американской городской современности людьми, и, будучи примитивными однокомнатными жилищами, больше напоминали жилища немодернистских обществ?
На такие вопросы вряд ли можно просто ответить «да» или «нет». Очевидно, что и советские, и американские хиппи были продуктом своего времени, а значит, не случайно это было поколение, родившееся после Второй мировой войны – события, глубоко повлиявшего на эти два общества. Похожий аргумент я приводила в своей первой книге про сталинское «последнее поколение», где выделяла многие факторы, благодаря которым советское и американское послевоенные общества развивались схожими путями, несмотря на все идеологические различия и местные особенности35. Это было верно и для детей последнего сталинского поколения. Несмотря на десятилетия идеологических разногласий и враждебных действий холодной войны, разочаровавшаяся молодежь и на Западе, и на Востоке почти одновременно выступила против созданного их родителями мира, нарушив социальный и культурный послевоенный консенсус.
Военные и первые послевоенные годы породили субкультуры, которые отвергали господствующий маскулинный идеал солдата-ветерана: зут-сьютеров (zoot suiters), зазу (Zazous), тедди-боев (Teddy Boys) и стиляг. И так же не случайно, что двадцать лет и одно поколение спустя молодежь первого и второго миров восстала против послевоенных внутренних порядков, установленных их родителями, которые хотели преодолеть и забыть потрясения середины века. Коммерциализация, меркантилизация и социальная стратификация обеспечивали мотивационную основу не только в капиталистическом, но и в социалистическом мире. Также и там и там политические элиты успешно развивали систему образования. Повсюду в хиппи шли хорошо образованные молодые люди из состоятельных социальных слоев; они могли сформулировать критические идеи именно благодаря тому, что их научили критическому мышлению в соответствующих системах.
Еще одним явлением, объединившим хиппи по всему миру, были ритмы музыки 1960‐х. В своих воспоминаниях британская активистка Дженни Диски начинает и заканчивает свое введение в описание социологического портрета культуры своего поколения словами: «Я вам говорила, что у нас была хорошая музыка?»36 Ритмы музыки, впервые прославившейся благодаря «Битлз», проложили дорогу глобальному движению, превзошли все то, что ранее объединяло Восток и Запад. И хотя в Советском Союзе большая часть Запада была действительно чем-то «воображаемым»37, музыка была настоящей, и переживания, с ней связанные, – тоже. Она привлекала всех, несмотря на идеологические разногласия. Единственное, что действительно отличало культуру хиппи от предыдущих альтернативных культур, было то, что они не отдавали предпочтения чему-то одному, стилю или интеллекту. Они смогли наполнить свой музыкальный опыт идеями и позволили этим идеям развиваться в такт музыке. Подобный подход, сочетающий чувства и идеи, был очень заразителен.
Как на Западе, так и на Востоке хиппи смогли взять за основу для своих идей и взглядов давние и удивительно похожие друг на друга традиции молодежных альтернативных культур. Некоторые хипповские принципы восходят к реформаторским движениям рубежа столетий, проповедовавшим прогрессивный жизненный уклад, свободный от строгих норм предшествующих эпох, которые также были реакцией на существовавшие тогда трудности. Они искали ответы в природе или естественном порядке вещей. Тот факт, что Толстой и толстовское движение воодушевляли как многие коммунистические проекты в СССР (такие, как различные коммуны), так и сообщества хиппи на Востоке и Западе, свидетельствует об общих корнях этих движений, которые столетие спустя считали друг друга антагонистами. В результате в 1978 году и советские официальные лица, и хиппи отправились в имение Толстого в Ясной Поляне, чтобы отпраздновать 150-летний юбилей философа и писателя (но на торжества попали только первые). Список альтернативных течений довоенного и послевоенного времени, чья деятельность подготовила почву для движения хиппи, обширен: в частности, он включает в себя немецкое движение «Вандерфогель» (Wandervogel, «Перелетные птицы». – Прим. пер.), ориентированное на связь с природой, а также общины художников Вудстока на севере штата Нью-Йорк – мéста, которое спустя полвека станет символом хиппи38. После Второй мировой войны стиль и идеи каким-то образом разделились. С одной стороны, они нашли выражение в субкультурах, ориентированных скорее на стиль, таких как тедди-бои (Teddy Boys) или стиляги, которые открыто выступали против традиционной эстетики и неформальных принятых гендерных норм. С другой стороны, в интеллектуальном плане эмоциональные переживания, которые несли в себе поэзия и экспрессионистская литература, подготовили почву для хиппи, которые использовали свои тела и стиль жизни в качестве средств передачи своих идей, также увлекаясь примитивным искусством и литературой39. В то время как в Соединенных Штатах духовная связь между хиппи и битниками хорошо известна – не в последнюю очередь благодаря Аллену Гинзбергу, который был переходной фигурой, – в Советском Союзе связь между различными альтернативными формами изучена намного хуже. Исключением является прекрасная книга рижского битника Эйженса Валпетерса (Eižens Valpēters), в которой показаны развитие и взаимосвязь латышской андеграундной культуры в Риге, свидетельствующие о том, что местные хиппи не появились из ниоткуда и не были заброшены с Запада40.
ИЗУЧАЯ КОНТРКУЛЬТУРЫ
Контркультуры всегда интересны сами по себе. Но еще больший интерес вызывают контркультуры, возникшие в местах с широко распространенным конформизмом, – сначала у журналистов и наблюдателей, позднее у историков. Однако только в последние несколько лет академические исследователи обратили свое внимание на контркультуры, существовавшие за железным занавесом. Возможно, в этом случае необходима историческая дистанция, чтобы выйти за рамки «экзотики» и «необычного». Но также это запаздывание отражает устоявшуюся тягу историков к письменным источникам и к культурам, использующим письменный язык. Контркультуры отличались меньшей вербальностью, чем многословная официальная социалистическая культура, и о них намного реже писали в советской прессе. Поэтому в исследованиях гораздо больше внимания уделяется официальной культуре и тем контркультурам, которые публиковались подпольно или где-то еще: в случае Советского Союза это были в основном правозащитники, отказники-сионисты, художники-нонконформисты и многочисленные национальные движения41. Контркультуры с меньшим количеством вербальных материалов или полным их отсутствием было тяжелее изучать, и они выглядели более маргинальными. Впечатляющая работа по сбору информации была проведена в рамках проекта «Мужество: объединяя коллекции» (Courage: Connecting Collections), в ходе которого регистрировались и анализировались коллекции культурной оппозиции в Восточной Европе (но за исключением пространства бывшего СССР). Организаторы проекта попытались выйти за рамки письменных источников, включив также фильмы, музыку и театр. Но, взяв за отправную точку «коллекции», они по-прежнему отдавали преимущество тем культурам, которые концентрировались на текстовых материалах в широком смысле42.
Разумеется, большинство контркультур (если не все) отражались в официальных документах, но при этом выглядели они там крайне неудовлетворительно, отфильтрованные и искаженные должностными лицами и представителями власти. Личные контркультурные архивы – по крайней мере, в бывшем Советском Союзе – если вообще существуют, то обычно глубоко запрятаны в частных домах и появляются на свет только после тщательных поисков и интервью. Фактически контркультурам Восточной Европы и Советского Союза пришлось ждать, пока волна вызванного открытием архивов исследовательского интереса не схлынула и исследователи снова не начали искать за пределами архивов. Однако в Восточной Европе ситуация отличается, поскольку эти культуры становились жизненно значимыми для построения посткоммунистической идентичности, а следовательно, частные архивы превращались в коллекции и быстрее попадали в государственные хранилища43.
Наиболее животрепещущим остается вопрос, как обозначить и разместить контркультуры в социалистическом контексте44. Термин «контркультура» здесь используется только как одна из наиболее нейтральных характеристик – они назывались по-разному, в зависимости от того, как описывались их главные герои. Я возглавляла проект и была редактором сборника Dropping Out of Socialism, в котором особое значение придавалось уходу из мейнстрима и созданию альтернативной среды. Я считаю, что слово «выпадать» говорит нам о важном: сознательный разрыв с повседневной нормой – действие, которое совершали хиппи, панки, йоги и диссиденты, – фундаментальным образом отличал их от тех, кто просто рассказывал политические анекдоты на кухнях или слушал дома рок-музыку45. Хотя даже для самых убежденных хиппи это было лишь частью их истории. В предисловии к сборнику я призывала использовать множество терминов, которые дополняют друг друга, а не противоречат один другому. Поэтому на одном конце спектра находится давно укоренившийся термин Eigensinn (нем. своеволие), появившийся в историографии ГДР и включавший даже незначительное и пассивное поведение, демонстрирующее отличие от установленных норм46. Относительно недавно к Eigensinn добавилось слово Verweigerung (нем. отказ), которое подчеркивает добровольный отказ признавать социалистический проект или с ним сотрудничать47. А на другом конце расположились более радикальные понятия, такие как «выпадение», «протестная культура» и «культурная оппозиция» (dropping out, protest culture, cultural opposition), которые подчеркивают преднамеренное действие, осознанность и интеллектуальное и физическое отстранение. В эго-документах популярно понятие «внутренняя эмиграция». Однако с этим термином есть свои сложности, не в последнюю очередь из‐за его апологетического подтекста48. Общепринятый и хорошо концептуализированный термин «субкультура» также говорит о многом, особенно когда речь идет о нонконформистских явлениях в Восточной Европе, поскольку семиотика стиля была очень важна в обществе, в котором все было пропитано текстом. Написанное слово считалось опасным, визуальное отличие было совершенно недопустимым49. Многое из того, что Антонио Грамши (Antonio Gramsci), Дик Хебдиге (Dick Hebdige) или Стюарт Холл (Stuart Hall) говорили про субкультуры и их отношения с господствующей культурой, помогает лучше понять, как восточноевропейские контркультуры сочетались с системой и обществом социализма, не в последнюю очередь потому, что они подчеркивали двойственность субкультуры, которая одновременно отвергала официальную культуру и зависела от нее50. Однако именно из‐за того, что недавние исследования пытались преодолеть условную двойственность таких понятий, как «вторая культура», «параллельные культуры» и «андеграунд», термин «субкультура» закономерно вышел из употребления, поскольку, как и термин «молодежная культура», он непосредственно связан с контркультурами, но не может охватить их разнообразие, существовавшее за железным занавесом, – в некоторых случаях на протяжении многих десятилетий и чаще всего со стареющими участниками51. Даже понятия, которые просто подчеркивают различия (такие, как «культурная оппозиция», выбранное авторами проекта «Мужество: объединяя коллекции», или «нонконформизм», или «неофициальная культура» – популярный термин у тех, кто изучает искусство и литературу, или «контркультура» – термин, используемый здесь), являются спорными: они остаются устойчивыми ровно до той поры, пока остаются устойчивыми нормы, а ведь даже на пике брежневского застоя нормы незаметно, но непрерывно менялись52.
Наиболее интересный подход к тому, как расположить контркультуры внутри социалистического окружения, был предложен литературоведами. В предисловии к специальному выпуску журнала Russian Literature, посвященному нонконформизму в России, Клавдия Смола и Марк Липовецкий утверждают, что контркультуры и официальная система должны рассматриваться как «большие интерактивные дискурсивные поля». Их интересуют пространства «между официальным и неофициальным» и «зоны перехода и обмена»53. В некотором смысле такой подход является продолжением тезиса Сергея Ушакина о диссидентской «ужасающей мимикрии» под официальную культуру54. Однако статьи, размещенные в специальном выпуске Russian Literature, показывают, что отношения между господствующей и подчиненной культурами не ограничивались подражанием и невозможностью вырваться из советских рамок. Дискурсивные поля между нонконформизмом и общепринятыми нормами содержат двухстороннюю коммуникацию и характеризуются множеством реакций, от однозначного неприятия советских норм до адаптации, от ненамеренного созидания до сознательного стремления к разрушению55. Цель рассмотрения неофициальной культуры заключается не в том, чтобы определить «другого», а в том, чтобы проследить связи, соединяющие противоположности. Результат беспорядочный, но небезынтересный: клубок тесно переплетенных убеждений, практик и общего пространства. Советские хиппи не находились вне социализма. Они просто заняли свое очень специфическое место.
ИЗУЧАЯ ПОЗДНИЙ СОЦИАЛИЗМ
И это подводит нас к загадке позднего социализма как габитуса, который был настолько сложным, со своими множественными нормативными рамками и практиками, что движение по нему создавало особый тип человека, обладающего особыми навыками. Самое важное заключается в том, что поздний социализм создал что-то очень самобытное, о чем, однако, невозможно думать, не учитывая его внезапного конца. Ретроспективный подход – опасная для историка вещь, но он также является его преимуществом. Алексей Юрчак отлично продемонстрировал этот парадокс позднего социализма, озаглавив свою нашумевшую монографию «Это было навсегда, пока не кончилось». Однако эта книга до сих пор считается каноническим текстом о позднесоветском социализме не потому, что автор выразил в заголовке противоречие между стабильностью и хрупкостью позднего СССР (отказавшись при этом комментировать причины, по которым Советский Союз распался), а потому, что он ввел в обращение ряд очень важных понятий, которые с тех пор используются антропологами, историками и литературоведами. «Вненаходимость», «воображаемый Запад», «детерриториализация» – эти термины отразили симптомы позднесоветской жизни – и захватили умы многих исследователей56. Значение книги Юрчака сложно переоценить: невозможно представить работу о позднем СССР без того, чтобы вас не спросили, как вы соотноситесь с ней. Ожидается, наверное, что или вы не можете добавить ничего нового, или вы с Юрчаком не согласны и сумеете обосновать свою точку зрения. Поскольку мне задавали этот вопрос бесчисленное количество раз, я считаю необходимым здесь на него ответить, даже если и не оправдаю чьих-то ожиданий.

