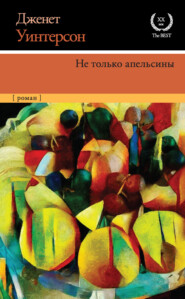
Полная версия:
Не только апельсины
Наконец мы дошли до нашей двери. Доброй ночи, Мэй, доброй ночи, Элис, благослови вас Бог. Папа уже лег спать, потому что смены у него были ранние, а мама еще долго не ляжет.
Сколько себя помню, она всегда ложилась в четыре, а папа вставал в пять. По-своему даже приятно, ведь всегда можно спуститься среди ночи и не чувствовать себя одинокой. Довольно часто мы ели яичницу с беконом, и мама немного читала мне из Библии.
Мое образование началось так: мама учила меня читать по Второзаконию и рассказывала о жизни святых – какими они были грешными и как предавались безымянным желаниям. Таким нельзя поклоняться, то есть это еще одна – очередная! – ересь католической церкви. Нельзя поддаваться сладкоречивым папистам.
– Но я в жизни папистов не видела.
– Девиз девушки – «БУДЬ ГОТОВА».
Я усвоила, что дождь идет, если тучи натыкаются на какое-нибудь высокое здание, например на шпиль или на собор; от столкновения образуется дырка, и все внизу становится мокрым. Вот почему в стародавние времена, когда единственными высокими зданиями были дома Божьи, люди говаривали, что чистота – все равно что святость. Чем более святой у тебя город, чем больше в нем высоких зданий, тем чаще идет дождь.
– Поэтому в безбожных местах такая сушь, – объяснила мама, потом уставилась в пустоту, и карандаш в руке у нее дрогнул. – Бедный пастор Спрэтт.
Я обнаружила, что все в мире природы есть символ Великой Битвы между добром и злом.
– Возьмем змею мамбу, – сказала мама. – На короткой дистанции мамба способна обогнать лошадь.
И она изобразила гонку на листе бумаге. Она имела в виду, что в краткосрочной перспективе зло может на время победить, но не надолго. Мы очень обрадовались и спели наш любимый гимн «Не поддайся искушению».
Я попросила маму научить меня французскому языку, но ее лицо омрачилось, и она отказала.
– Почему?
– Он едва не привел меня к падению.
– О чем ты? – не унималась я всякий раз, когда представлялся случай.
Но она только качала головой и бормотала, что я слишком юна, что я сама скоро все узнаю и что это очень скверно.
– Как-нибудь, – сказала она наконец, – я расскажу тебе про Пьера. – А потом включила радио и так долго не обращала на меня внимания, что я пошла спать.
Довольно часто она начинала рассказывать мне какую-нибудь историю, но посреди повествования отвлекалась, поэтому я так и не узнала, куда переместился земной рай с индийского побережья, и почти на неделю застряла на «шестью семь равно сорок два».
– Почему я не хожу в школу? – спросила я.
Мне было интересно узнать про школу, потому что мама всегда называла ее Рассадником. Я не знала, что она имеет в виду, но знала, что это плохо, как «противоестественные страсти».
– Там тебя с пути истинного собьют, – только и слышала я в ответ.
Обо всем этом я думала в уборной. Она была на улице, и я терпеть не могла ходить туда ночью из-за пауков, которые приползали из угольного сарая. Мы с отцом уйму времени проводили в уборной: я сидела, подсунув под себя руки, и напевала под нос, а отец, наверное, стоял. Мама очень сердилась.
– Что вы там вечно торчите? На эти дела ведь не надо много времени.
Но в нашем доме больше некуда было пойти. У нас была одна спальня на всех. Мама собственноручно обустраивала ванную комнату рядом и со временем собиралась, если останется место, поставить перегородку, чтобы соорудить маленькую комнатку для меня. Но работа шла очень медленно, ведь слишком многое занимало мысли мамы. Иногда приходила миссис Уайт помочь замешать раствор, но в итоге они слушали Джонни Кэша[13] или сочиняли очередную листовку про крещение через полное погружение в воду[14]. Однако в конце концов дело было сделано – не прошло и трех лет.
Тем временем мое обучение шло своим чередом. Благодаря слизням и маминым каталогам семян я узнала про сельское хозяйство и про садовых вредителей и приобрела представление об историческом процессе благодаря пророчествам из Откровения и журналу под названием «Неприкрытая правда», который мама получала раз в неделю.
– Илия[15] снова среди нас, – заявляла она.
А еще я научилась истолковывать знаки и чудеса, которых ни за что не понять неверующему.
– Тебе это понадобится, когда ты отправишься обращать язычников, – напоминала мне мама.
Потом, однажды утром, когда нам пришлось встать рано, чтобы слушать Ивана Попова из-за «железного занавеса», в почтовый ящик нам плюхнулся толстый коричневый конверт. Мама решила, что это письмо с благодарностями от тех, кто был на агитационном собрании «Крестового похода во исцеление недужных» в зале при ратуше. Она рывком его вскрыла, и лицо у нее вытянулось.
– Что там? – спросила я.
– Это про тебя.
– Что про меня?
– Я должна отправить тебя в школу.
Я пулей улетела в уборную и села на руки. Наконец-то, Рассадник!
Книга Исход
– Почему ты меня туда посылаешь? – спросила я накануне вечером.
– Потому что, если ты не пойдешь, меня посадят в тюрьму. – Она взяла нож. – Сколько тебе бутербродов?
– Два. А с чем они будут?
– С говяжьей тушенкой, и скажи спасибо.
– Но если тебя посадят в тюрьму, то потом снова выпустят. Святого Павла вечно сажали в тюрьму.
– Я это знаю. – Она решительно разрезала хлеб – показался малюсенький плевочек подливы от тушенки. – А Те, Кто По Соседству, нет. Ешь и молчи.
Она толкнула ко мне тарелку. Выглядело как сущая гадость.
– А почему мне нельзя чипсов?
– Потому что у меня нет времени жарить чипсы. Мне надо попарить ноги и погладить тебе жилетку, притом что я еще даже не притронулась к запросам на молитву. А кроме того, картошки нет.
Я пошла в гостиную в поисках, чем бы заняться. На кухне мама включила радио.
– А сейчас, – произнес голос, – программа о семейной жизни слизней.
Мама взвизгнула.
– Ты это слышала? – спросила она и просунула голову из дверей на кухню. – Семейная жизнь слизней! Это богомерзко! Как если бы они сказали, что мы происходим от обезьян.
Я задумалась. Сырым промозглым вечером среды мистер и миссис Слизень возвращаются домой. Мистер Слизень тихонько дремлет, миссис Слизень читает книгу про воспитание трудных детей. «Я так беспокоюсь, доктор. Он такой тихий, забился в свою скорлупу».
– Нет, мам, – ответила я, – все совсем не так.
Но она не слушала. Она вернулась на кухню, и до меня доносилось ее бормотание, пока она крутила ручку и настраивалась на «Всемирную службу». Я пошла к ней.
– Дьявол в миру, но не в доме сем, – произнесла она и устремила взгляд на изображение Христа, висящее над духовкой.
Это была акварель девять на девять, которую написал для мамы пастор Спрэтт перед тем, как покинуть свой евангелизационный поход во славу Господа ради Уигана и Африки. Картинка называлась «Господь кормит птиц», и мама повесила ее над духовкой, поскольку бо́льшую часть времени проводила у плиты, готовя всякое для паствы. Картинка чуть-чуть обтрепалась, к ноге Господа прилип кусочек желтка, но мы не стали его счищать из страха, что соскребем его вместе с краской.
– С меня хватит, – сказала она. – Уходи.
И она снова закрыла дверь на кухню и выключила радио. Я слышала, как она напевает «Хвалы Тебе возносятся».
«Ну вот и все», – подумала я.
Так оно и было.
На следующее утро царила суматоха. Мама вытащила меня из кровати, крича, что уже половина восьмого, что она глаз не сомкнула и что папа ушел на работу, не прихватив с собой обед. Она вылила в раковину чайник кипятка.
– Почему ты не ложилась? – спросила я.
– Какой смысл, если через три часа вставать вместе с тобой?
– Но ты могла бы лечь пораньше, – подсказала я, сражаясь с пижамой.
Пижаму мне сшила одна старая женщина, но отверстие для горловины сделала того же размера, что и для рук, поэтому у меня вечно саднили уши. Когда у меня воспалились аденоиды и я на три месяца оглохла, этого тоже никто не заметил.
Как-то ночью я лежала в кровати, думая о славе Господней, как вдруг сообразила, что все кругом стало слишком уж тихим. Я, как обычно, посещала церковь, пела громко – тоже как обычно, – но мне уже некоторое время казалось, будто я одна издаю какие-либо звуки. Я решила, что у меня «состояние молитвенного экстаза» – вполне обычное явление в нашей церкви. Позднее я обнаружила, что мама предположила то же самое. Когда Мэй спросила, почему я никому не отвечаю, моя мама ответила: «Это Бог».
– Что Бог? – растерянно переспросила Мэй.
– Его пути неисповедимы, – заявила моя мать и занялась чем-то еще.
И так – неведомо для меня – в нашей церкви распространилась весть, что я в молитвенном экстазе и что никто не должен со мной заговаривать.
– Как, по-твоему, почему это случилось? – поинтересовалась миссис Уайт.
– Ничего удивительного, ей семь лет, сама знаешь. – Мэй для пущего эффекта помедлила. – Это священное число, странные вещи случаются с семерками, взять хотя бы Элси Норрис.
Элси Норрис (или Глаголющая Элси, как ее называли) была большим подспорьем для нашей церкви. Всякий раз, когда пастор просил привести пример милости Господа, Элси вскакивала и кричала: «Послушайте, что Бог сделал для меня на этой неделе».
Ей нужны были яйца, и Бог их послал.
У нее были колики, и Бог их унял.
Она всегда молилась по два часа в день: в семь утра и в семь вечера.
В качестве хобби она выбрала нумерологию и не приступала к чтению Писания, не бросив кости, которые указали бы ей, с чего начать. «Одна костяшка для главы, другая – для стиха» – таков был ее девиз.
Однажды кто-то спросил ее, как она поступает с теми книгами Библии, в которых больше шести глав.
«У меня свои пути, – чопорно ответила она, – у Господа – свои».
Она очень мне нравилась, потому что дома у нее было много всего интересного. Например, орган – чтобы извлечь из него звук, нужно нажать на педаль. Всякий раз, когда я к ней приходила, она играла «Поведи к благому свету». Она давила на клавиши, а я – на педали, потому что у нее была астма. Она коллекционировала иностранные монеты и хранила их в стеклянном ящике, от которого пахло льняным маслом. Она говорила, это напоминает ей о покойном муже, который играл в крикет за Ланкашир.
– Его прозвали Стэн Тяжелая Рука, – повторяла она всякий раз, когда я ее навещала.
Она никак не могла запомнить, что и кому говорит. Она никак не могла запомнить, как давно хранится тот или иной фруктовый пирог. Как-то раз она предлагала мне один и тот же кусок пирога пять недель кряду. Мне повезло, она ведь не помнила и того, что говорят ей самой, поэтому каждую неделю я приводила одно и то же оправдание своему отказу.
– Колики, – говорила я.
– Я за тебя помолюсь, – отзывалась она.
А самое главное – у нее был коллаж с Ноевым ковчегом. На нем двое Ноев-родителей выглядывали в окошко посмотреть на потоп, а другие Нои пытались поймать одного из зайцев. Наибольший восторг у меня вызвал съемный шимпанзе из губки для мытья посуды – в конце моего визита Элси разрешала мне пять минут с ним поиграть. У меня была уйма вариантов, но обычно я его топила.
Как-то в воскресенье пастор обратил внимание собравшихся на мою глубокую набожность. Он двадцать минут говорил обо мне, а я ни слова не слышала, просто сидела и читала Библию и думала, какая же длинная эта книжка. Разумеется, эта кажущаяся скромность лишь еще больше всех убедила.
Я думала, что никто со мной не разговаривает, а другие думали, что это я с ними не разговариваю, но однажды вечером я поняла, что вообще ничего не слышу, а потому спустилась вниз и написала на листке бумаги: «Мама, в мире очень тихо».
Кивнув, мама продолжила читать. Эту книгу она получила с утренней почтой от пастора Спрэтта. Там было про миссионеров, и называлась она «Другим континентам Он тоже ведом».
Я не могла привлечь внимание мамы, поэтому взяла апельсин и пошла в кровать. Мне пришлось разбираться самой.
На день рождения кто-то подарил мне ксилофон и сборник народных песен с нотами. Подложив себе под спину подушки, я спела пару куплетов «Милого старого Сайна».
Я видела, как двигаются мои пальцы, но никакого звука не получалось.
Я попробовала «Коричневый кувшинчик».
Ничего.
В отчаянии я начала тарабанить ритм «Стариковской реки».
Ничего.
И до утра я ничего не могла поделать.
На следующий день, едва встав, я твердо решила объяснить маме, что со мной что-то не так.
В доме никого не было.
Завтрак мне оставили с короткой запиской на кухне:
«Дорогая Дженет,
Мы ушли в больницу молиться за тетю Бетти, у нее вылетает коленный сустав.
С любовью
Мама».
Поэтому на весь день я оказалась предоставлена самой себе и наконец решила пойти погулять. Эта прогулка стала моим спасением. Я повстречала мисс Джюсбери, она была очень умная и играла на гобое. А еще она руководила хором сестринской общины.
– Но в ней нет святости, – сказала как-то миссис Уайт.
Наверное, мисс Джюсбери со мной поздоровалась, а я ее проигнорировала. Она давно не бывала в церкви, так как уезжала с Симфоническим оркестром Армии спасения на гастроли по центральным графствам и потому не знала, что я будто бы полна святого духа. Она стояла передо мной, открывала и закрывала рот – из-за гобоя он открывался очень широко – и сводила брови к переносице. Схватив мисс Джюсбери за руку, я повела ее на почту. Там я взяла ручку и написала на обороте бланка заявления на детское пособие: «Дорогая мисс Джюсбери, я ничего не слышу».
Она посмотрела на меня с ужасом, а потом, завладев ручкой, написала в ответ: «Что твоя мама предприняла в связи с этим? Почему ты не в постели?»
Но теперь на бланке не осталось места, поэтому мне пришлось писать на листовке «К кому обращаться в экстренных случаях».
«Дорогая мисс Джюсбери, – написала я. – Моя мама не знает. Она в больнице у тети Бетти. В постели я была ночью».
Мисс Джюсбери только смотрела на меня во все глаза. Она так долго смотрела, что я задумалась, а не пойти ли домой. Затем она схватила меня за руку и потащила в больницу. Когда мы туда пришли, моя мама и кое-кто из остальных стояли на коленях вокруг кровати тети Бетти и пели гимны. Когда мама увидела меня, она немного удивилась, но не встала. Мисс Джюсбери тронула ее за плечо и начала снова выделывать всякие штуки губами и бровями, а мама все качала головой. Наконец мисс Джюсбери закричала так громко, что даже я услышала.
– Этот ребенок не исполнен святого духа, – орала она. – Она глухая.
Все в больнице повернулись на меня посмотреть. Я сильно покраснела и уставилась на поилку тети Бетти. Хуже всего было совсем не знать, что происходит.
Потом к нам подошел очень сердитый врач, а потом он и мисс Джюсбери стали размахивать друг перед другом руками. Благочестивые вернулись к своим гимнам, точно вообще ничего не происходило.
Доктор и мисс Джюсбери поскорей увели меня в холодную комнату, в которой было много всяких приборов, и заставили лечь. Врач все время постукивал меня в разных местах и качал головой.
И было абсолютно тихо.
Потом пришла мама и как будто поняла, что к чему. Она подписала бланк и написала мне еще одну записку:
«Дорогая Дженет!
Ничего страшного не случилось, просто ты слегка оглохла. Почему ты мне не сказала? Я иду домой за твоей пижамой».
Что она делает? Почему она меня тут бросает? Я заплакала. Лицо у мамы стало возмущенно-испуганное, и, порывшись в сумочке, она дала мне апельсин. Я его почистила – просто чтобы отвлечься и утешить себя. Заметив, что я немного успокоилась, все переглянулись и ушли.
С самого своего рождения я считала, что мир живет по очень простым правилам, – как наша церковь, только в большем масштабе. А теперь я обнаружила, что даже церковь не всегда знает ответ. В том-то и заключалась проблема. Много лет спустя у меня будет другая проблема, но тогда это уже будет мой собственный выбор. А сейчас она заключалась в том, что со мной станется. Больница, носившая имя королевы Виктории, была большой и пугающей, и мне даже петь было нельзя, потому что я не слышала, что пою. И читать было нечего, кроме каких-то плакатов по гигиене полости рта и инструкций к рентгеновскому аппарату. Я попробовала построить хижину иглу из апельсиновых корок, но они то и дело падали, и даже если бы и не падали, у меня все равно не было эскимоса, чтобы поселить его в хижине. Поэтому мне пришлось придумать историю «Как морж съел эскимоса», отчего я почувствовала себя еще несчастнее. Вечно так с попытками отвлечься – не замечаешь, как втягиваешься в чужой мир.
Наконец вернулась мама, и медсестра надела на меня пижаму и отвела нас обеих в палату для детей. Там было гадко. Стены были бледно-розовые, и на всех занавесках – животные. И притом не настоящие животные, а пушистые и играющие в разные игры цветными мячиками. Я вспомнила про морского моржа, которого только что придумала. Он был злой, ведь съел эскимоса, но все равно лучше этих. Мое иглу медсестра выбросила в мусорную корзину.
Мне совсем нечем было заняться, оставалось только лежать неподвижно и размышлять о своей участи. Несколько часов спустя мама вернулась с моей Библией, раскраской из Союза Писания[16] и бруском пластилина, который тут же отобрала нянечка. Я скорчила грустную рожицу, и нянечка написала на карточке: «Очень плохо, ребенок может проглотить». Я глянула на нее возмущенно и написала в ответ: «Я не хочу его глотать, я хочу из него строить. И вообще пластилин не токсичный, так на упаковке сказано» – и помахала у нее перед носом упаковкой. Нахмурившись, женщина покачала головой. Я повернулась за поддержкой к маме, но та корябала мне длинное письмо. Нянечка начала поправлять постель, а запретный пластилин убрала себе в карман. Я поняла, что переубедить ее не удастся.
Я потянула носом воздух: средство для дезинфекции и картофельное пюре. Тут мама ткнула в меня пальцем, положила свое письмо на тумбочку и высыпала в миску у моей поилки целый пакет апельсинов. Я слабо улыбнулась в надежде на поддержку, но она только погладила меня по голове и была такова. Я осталась одна и стала думать про Джейн Эйр, на долю которой выпали многие испытания и которая всегда оставалась храброй. Мама читала мне эту книгу всякий раз, когда ей было грустно, она говорила, что эта книга дарует ей силу духа. Я взяла ее письмо с дежурными «не волнуйся», «тебя многие будут навещать», «выше нос» и с обещанием упорно трудиться над устройством ванной и не позволять миссис Уайт встревать. Мол, она скоро придет, а если нет, то пришлет папу. Мол, операцию мне назначили на завтра. Тут я уронила письмо на кровать. На завтра! А что, если я умру?! Такая юная и многообещающая! Я подумала о своих похоронах. Сколько слез будет! Я хотела, чтобы меня похоронили с моей куклой Голли и Библией. Может, надо оставить распоряжения? Можно ли рассчитывать, что кто-то их учтет? Уж мама-то в болезнях и операциях разбиралась. Врач сказал ей, что женщина в ее состоянии не должна ходить по улице, но она ответила, что ее время еще не пришло и что она-то знает, куда идет, в отличие от него. В одной книге мама прочла, что от анестезии люди умирают чаще, чем во время катания на водных лыжах.
– Если Господь тебя вернет, – сказала она Мэй, когда той должны были удалить камни из желчного пузыря, – ты поймешь, что у него для тебя есть работа.
Забравшись под простыню, я стала молиться, чтобы меня вернули.
Утром, в день моей операции, медсестры и нянечки улыбались и снова поправляли мне постель, и возводили из апельсинов симметричную башню. Две волосатые руки подняли меня и привязали ремнями к холодной каталке. Заскрипели колесики. Мужчина, который толкал каталку, шел слишком быстро. Коридоры, двойные двери и две пары глаз, смотрящих на меня поверх плотных белых масок. Какая-то медсестра держала меня за руку, пока кто-то еще пристраивал мне на рот и нос дыхательную маску. Я вдохнула и увидела огромную череду людей, катающихся на водных лыжах, – они куда-то падали и не возвращались. А после я вообще ничего не видела.
– Желе, Дженет.
Я знала, просто знала, что умерла и ангелы предлагают мне желе. Я открыла глаза, ожидая увидеть пару крыльев.
– Ну же, поешь, – понукал голос.
– Ты ангел? – с надеждой спросила я.
– Не совсем. Я врач. А вот она сущий ангел. Правда же ты ангел, нянечка?
Ангел покраснела.
– Я слышу, – сказала я, ни к кому конкретно не обращаясь.
– Ешь свое желе, – велела нянечка.
Я до конца недели могла бы прозябать в палате, если бы Элси не выяснила, где я, и не начала меня навещать. Я знала, что до выходных мама прийти не сможет, так как ждет водопроводчика, – он должен был проверить прокладки. Элси приходила каждый день и рассказывала мне всякие шутки, чтобы меня развеселить, и истории, чтобы я чувствовала себя лучше. Она говорила, что истории помогают понимать мир. Когда мне стало лучше, она пообещала научить меня азам нумерологии, чтобы я помогала ей с подсчетами. Меня охватил восторг, ведь я знала, что мама нумерологию не одобряет. Она говорила, что вера в нумерологию граничит с безумием.
– Ну и пусть, – сказала Элси. – Зато это работает.
Итак, мы отлично проводили время вдвоем, планируя, что будем делать, когда я поправлюсь.
– Сколько тебе лет, Элси? – поинтересовалась я.
– Я Великую войну помню, а больше ни словечка от меня не услышишь.
Потом она стала рассказывать, как водила машину «Скорой помощи» без тормозов.
Под конец моего пребывания в больнице мама довольно часто ко мне приходила, хотя в церкви была горячая пора. Как раз планировали Рождественскую евангелизационную кампанию. Когда мама не могла прийти сама, она присылала папу – обычно с письмом и парой апельсинов.
– Единственный фрукт, – всегда говорила она.
Фруктовый салат, фруктовый пирог, фрукты в креме, фруктовый пунш. Дьявольский плод, плод страсти, гнилой плод, плоды духа, плоды воскресенья.
Апельсины – единственный фрукт. Положенная мне маленькая мусорная корзинка заполнялась шкурками, и нянечки выбрасывали их с недовольным видом. Я прятала шкурки под подушки, и нянечки ругались или вздыхали.
Мы с Элси Норрис каждый день съедали по апельсину – пополам. Зубов у Элси не было, поэтому она высасывала сок и перетирала деснами цедру. Я свои дольки глотала, как устриц, заталкивая подальше в горло. Окружающие всегда на нас пялились, но нам было все равно.
Когда Элси Норрис не читала Библию и не рассказывала истории, она погружалась в мир поэзии и поэтов. Она много всего мне рассказывала о Суинберне[17] и его бедах, о том, как страдал от непонимания Уильям Блейк.
– Чудаков никто не воспринимает всерьез, – любила говорить она.
Когда мне было грустно, она читала «Базар гоблинов» одной женщины по имени Кристина Россетти[18], которой один друг как-то подарил замаринованную мышку в банке.
Но больше всего Элси любила Уильяма Батлера Йейтса[19]. Йейтс, говаривала она, знал, как важны числа и как сильно меняет мир воображение.
– То, что выглядит как одна вещь, вполне может быть другой, – говорила она, и я вспоминала про мое иглу из апельсиновых шкурок.
– Если достаточно долго о чем-то думать, – объясняла Элси, – это скорее всего случится. – Она стучала себя по голове. – Все в нашем разуме.
Моя мама верила, что если достаточно долго о чем-то молиться, это случится. Я спросила у Элси, а не одно ли это и то же.
– Бог во всем, – задумчиво ответила она, – поэтому все и всегда одно и то же.
У меня было подозрение, что мама с этим не согласилась бы, но ее с нами не было, а потому это не имело значения.
Мы с Элси играли в настольную игру лудо и в виселицу. Перед уходом она всегда читала мне какое-нибудь стихотворение. В одном были такие строчки:
Все гибнет – творенье и мастерство,Но мастер весел, пока творит[20].Вот это я понимала, потому что неделями трудилась над своим иглу из апельсиновых корок. Какие-то дни оборачивались великим разочарованием, какие-то – почти триумфом. Это был подвиг равновесия и видения. Элси всегда меня поощряла, говорила, что не нужно обращать внимания на нянечек и медсестер.
– Из пластилина было бы проще, – посетовала я однажды.
– Но не так интересно.
К тому времени, когда меня наконец выписали из больницы, ко мне вернулись слух и – благодаря Элси – уверенность в себе.
Мне на несколько дней пришлось поехать жить к Элси, до возвращения мамы из Уигана, где она проводила аудит Общества заблудших.
– Я нашла ноты к новой оратории, – сказала Элси, пока мы ехали на автобусе. – Там есть интерлюдия для семи слонов.
– И как она называется?
– «Абиссинская битва».
Разумеется, это была очень знаменитая викторианская оратория – такая же патриотичная, как принц Альберт.
– Что-нибудь еще в церкви случилось?
– Да в общем нет, мы с Господом в настоящий момент друг другу не докучаем. Кое-что по дому потихоньку делаю, пока могу. Ничего особенного – по мелочи с плинтусами, ведь когда я с Богом, у меня ни на что времени нет!



