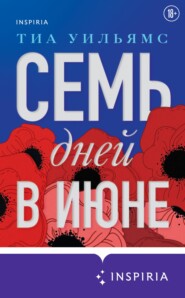
Полная версия:
Семь дней в июне
– Красотка, – вздохнула Лизетт. – Ричард Гир – чернокожий, я чувствую.
– Тебе кажется, что все чернокожие, пока не доказано обратное.
– Я не успокоюсь, пока не увижу его родословную.
Лизетт считала, что, поскольку в Белль Флер было много черных, которые выглядели белыми, цифры говорят о том, что многие белые могут быть черными. На Юге в этом смысле была очень тонкая грань, сказала бы она. Учитывая, что у этих грешных владельцев плантаций, насиловавших рабынь, рождались как белые, так и черные дети, каждый мог оказаться тем или другим. Именно это больше всего пугало белых южан.
Лизетт отпустила руку Женевьевы и по-кошачьи потянулась.
– Не спится. Дорогая, не заварила бы ты мне немного «Липтона»?
Женевьева механически кивнула. Было 6:17, и хотелось спать. Но это была ее работа. Она отвечала за дневное время. Поэтому, высвободившись из объятий Лизетт, она зашаркала по короткому коридору на кухню. В коридоре было темно, но на кухне горел свет. Очень странно.
Лизетт никогда не включала свет без крайней необходимости, для настроения. Только так можно было получить разумный счет за свет.
Женевьева замерла, в ее груди волной поднялась тревога.
Нет. Только не сегодня.
Она умоляла маму не приводить парней домой. Лизетт всегда уверяла ее, что однажды так и будет, их дом станет «пространством без мужчин». Но к концу долгой, пропитанной алкоголем ночи Лизетт забывала о своих обещаниях. Или о том, почему она вообще их дала.
Женевьева почувствовала его запах раньше, чем увидела. «Хеннесси»[27] и «Ньюпортс»[28]. Вот он, маленький круглый мужчина лет шестидесяти, сгорбившийся над крошечным кухонным столом из магазина Армии спасения, прерывисто храпит. На нем был дешевый костюм – блестящий на локтях и коленях – и пышный, вьющийся черный парик, настолько же кривой, насколько и бесстыдный.
Женевьева нерешительно шагнула в кухню, на линолеумный пол, который тихо прошелестел под ее ногами. Наклонившись к спящему, она пощелкала пальцами перед его лицом. Безрезультатно.
«Хорошо, – подумала она. – В отключке он безвреден».
Затаив дыхание, она на цыпочках прокралась мимо мужчины к шкафчику над раковиной. Потянувшись за «Липтоном», опрокинула блинную муку. Коробка с глухим стуком ударилась о столешницу, выпустив облако белого порошка.
– Женевьева, – невнятно произнес он. Его голос звучал тоньше, чем следовало. И с хрипотцой от двух выкуренных пачек в день. – Как дела, Женевьева? Так тебя зовут, да?
– Так, – ответила она, поворачиваясь к нему. – Мы познакомились вчера.
Он улыбнулся, показав пожелтевшие зубы.
– Я помню.
– Еще бы, – пробормотала она и прислонилась спиной к столешнице, сложив руки на груди. Усмехаясь, он высвободился из куртки и бросил ее Женевьеве.
– Повесь куда-нибудь, детка. – Это прозвучало как «Повисикудадет».
Она посмотрела на куртку с крайним отвращением.
– У нас нет вешалок.
С лающим смехом он пожал плечами и бросил куртку на пол.
Потом откинулся на стуле и медленно вытянул одну за другой ноги. Усаживаясь, он не сводил глаз с Женевьевы, рассматривая ее от макушки пышного высокого хвоста до носков.
Женевьева была одета в безразмерную мужскую футболкуHanes и широкие пижамные штаны; он определенно не увидел бы ни единого изгиба ее тела. Впрочем, это не имело значения. Просто хотел запугать. Насладиться властью.
Можно было бы позвать маму, которая наверняка уже уснула. Однако Лизетт ничем бы не помогла. В последний раз, когда она рассказывала маме о стычке с одним из ее парней, тень… странная тень… скользнула по лицу Лизетт, а потом она просто отмахнулась.
– Ох, девочка моя, Бог его уже не простит, – сказала она, улыбаясь как кинозвезда. – Тебе нравится, когда тебя одевают и кормят?
Женевьева, оцепенев, кивнула со слезами на глазах.
– Ну что ж. Будь умницей. Веди себя хорошо, – предупредила она, все еще улыбаясь. – Кроме того, ты слишком умна, чтобы угодить кому-то в лапы.
«В отличие от меня», – эти слова Лизетт вслух не произнесла. Когда дело касалось мужчин, мама действительно не могла похвастаться большим умом. Каждый раз, когда ее бросал ухажер, она бывала растеряна и ошеломлена. А потом с новой надеждой бросалась к очередному придурку. Лизетт слишком доверилась надежде. Она была как ребенок перед автоматом с игрушками в детском игровом центре. Коготь никогда не захватывает игрушку, сколько ни целься, – все подстроено. Но малыш пытается из раза в раз, потому что надеется, что наконец-то получится.
– Ты красивая, – сказал парень, белки его глаз покраснели. – Прямо как твоя мама. Тебе повезло.
– Да, – сухо ответила она. – До сих пор мне везло.
Женевьева смотрела на этого дурака – на его безумный шиньон, обручальное кольцо – и уже не в первый раз жалела, что не родилась мальчиком. Будь она мальчишкой, врезала бы так, что отправила бы его из этой жизни в следующую за один только тон. И еще за то, что он женат. И еще за то, что позволил маме пить на работе, ведь знал, что только так она согласится предлагать VIP-клиентам дорогие услуги помимо меню.
«Будь хорошей. Будь умницей».
– Но так ли это? – спросил он.
– Что – так?
Он погладил блестящую ткань на своем мясистом бедре.
– Такая ли ты, как твоя мама?
– В… каком именно смысле? – Женевьева тянула время, пытаясь придумать, как будет защищаться, если до этого дойдет. – Вы имеете в виду, например, хобби и интересы? Астрологические знаки? Любимый близнец инь-ян?
Он снова рассмеялся и погрозил ей пальцем.
– Ты умница.
Он поднялся с раскладного кресла, подошел к Женевьеве и остановился в футе от нее. Несмотря на ее смущение, она старалась держаться неприступно.
– Сколько тебе лет? – спросил он.
– Семнадцать.
– На вид меньше, – сказал он, придвинувшись чуть ближе.
«Господи, он один из этих», – подумала Женевьева, пытаясь собраться с мыслями. Мужчина был на сотню фунтов тяжелее ее, но пьяный и неповоротливый, а она ловкая. В отчаянии она обвела глазами крошечную кухню. Под рукой не было ничего твердого, чем можно было бы его ударить, – ни сковородки, ни чайника. Ничего, кроме коробки овсяных хлопьев, пластиковых вилок и пакетиков с соком.
«Мой перочинный нож в спальне – слишком далеко!»
Она хотела причинить ему боль, прежде чем он причинит боль ей. Но потом замерла в нерешительности. Этот парень был нужен маме. Он нашел им эту дерьмовую квартиру. Дал маме работу. Он поддерживал их. Они с мамой были заодно, всегда вместе.
«Будь хорошей. Будь умницей».
– Сколько тебе лет? – спросила она, цепенея.
– Пятьдесят восемь. – Он наклонился ближе, неустойчиво покачиваясь. После долгого дня в клубе от него противно пахло. – Но я выносливый.
Ухмыляясь, он шлепнул ее липкой ладонью по руке. И тут часть ее мозга, всегда думавшая о Лизетт, отключилась. Женевьева замерла как статуя. Прищурилась. Чувства обострились.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Ювелирный магазин. (Здесь и далее прим. ред.)
2
Деятельность социальной сети Facebook запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. (Здесь и далее).
3
Национальный американский кинофестиваль независимого кино.
4
Лолита Шанте Гуден, более известная под своим сценическим псевдонимом Роксана Шанте, – американский рэпер.
5
Серена Уильямс – американская теннисистка.
6
Открытый чемпионат США по теннису.
7
Английская писательница.
8
Американо-французская танцовщица, певица и актриса.
9
Американская писательница, танцовщица, художница, жена писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
10
Современная шведская экологическая активистка.
11
Национальная баскетбольная ассоциация.
12
Американский мюзикл о жизни государственного деятеля Александра Гамильтона.
13
Американская актриса и певица. Дочь Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит.
14
Американская актриса и модель.
15
Трехдневный фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла (город Индио, штат Калифорния).
16
Имеется в виду серия детских триллеров американского писателя Роберта Лоуренса Стайна.
17
Имеется в виду стихотворение, которое Одри должна написать после изучения рассказа американского писателя Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров».
18
Игра слов. В оригинале Dadifornia. Dad (англ.) – папа, отец, California (англ.) – Калифорния.
19
Американский комедийно-драматический сериал, рассказывающий о неловком опыте современной афроамериканки.
20
Американский производитель электроники и устройств для фитнеса.
21
Американская модель.
22
Современная английская писательница.
23
Американский драматический сериал о семье богатейшего медиамагната, постепенно отходящего от дел.
24
Социальная сеть, позволяющая общаться музыкантам с фанатами, загружать и продавать музыку.
25
Домашние мюсли. Бирхермюесли – так называют их в Швейцарии.
26
Единственное в истории успешное восстание рабов, произошедшее во французской колонии Сан-Доминго в 1791–1803 годах, в результате которого колония получила независимость.
27
Французский коньяк.
28
Ментоловые сигареты.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

